
Ханна Арендт. "О Революции". Рус. пер. Игорь В. Косич
ГЛАВА ШЕСТАЯ

три сфинкса революций: джефферсон - ленин
- арендт
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТРАДИЦИЯ И ЕЁ ПОТЕРЯННОЕ НАСЛЕДСТВО
Notre héritage n'est précedé d'aucun testament
- Rene Char
(Наше наследство не оставлено нам никаким завещанием
- Рене Шар)
I
Если и существовало какое то одно событие, несущее ответственность за разрыв связей между Новым Светом и странами старой Европы, то таким событием была Французская революция, которая, по свидетельству её современников, никогда не произошла бы, не существуй великолепного примера по ту стороны Атлантики. Конечно, не сам факт революции, но её злополучный ход и крах французской республики, привели в конечном счёте к обрыву тесных духовных и политических связей между Америкой и Европой, связей, преобладавших на протяжении всего 17-го и 18-го столетий. Так
, Influence de la Révolution d'Amérique sur l'Europe [“Влияние Американской революции на Европу”, работа франц. философа Кондорсе (1789)], Кондорсе, появившейся за три года до штурма Бастилии, суждено было ознаменовать, по меньшей мере временный, конец, а никак не начало, Атлантической цивилизации. Может возникнуть соблазнительная надежда, будто разрыв, образовавшийся к концу 18-го века сейчас, во второй половине века 20-го, когда стало окончательно ясно, что Западная цивилизация имеет свой последний шанс выжить в Атлантическом сообществе. Среди признаков, подтверждающих эту надежду, также можно привести тот факт, что после Второй Мировой войны историки более чем когда-либо с начала 19-го века склонны рассматривать Западный мир как единое целое.Тогда как будущее сокрыто от нашего взора, можно с уверенностью сказать, что отчуждение двух континентов после революций 18-го века, возымело значительные последствия для прошлого. В основном именно в этот период Новый Свет потерял своё политическое значение в глазах ведущей элиты в Европе, и Америка перестала быть страной свободных и стала почти исключительно обетованной землёй бедных. Безусловно, позиция европейских высших классов по отношению к мнимому материализму и вульгарности Нового Света была в значительной степени обусловлена социальным и культурным снобизмом приобретающих всё большее влияние средних классов, и сама по себе не представляет большой важности. Куда существенней, что европейская революционная традиция в 19-м веке проявила не более как мимолётный интерес к Американской революции и ещё меньший -–к судьбе американской республики. В разительном контрасте с 18-м веком, когда политическая мысль
philosophes задолго до начала Американской революции ориентировалась на события и институты Нового Света, революционная политическая мысль в 19-м и 20-м веках развивалась так, как если бы никогда не было никакой революции в Новом Свете, и так, словно в американских теориях и опыте касающихся сферы политики и государственного устройства никогда не было ничего достойного внимания.Уже в нашем веке, когда революции стали вполне обыденным явлением в политической жизни большинства стран и континентов, эта неудача попытки вписать Американскую революцию в революционную традицию бумерангом ударила по внешней политике Соединённых Штатов, которые стали платить непомерную цену за это неведение американских корней во всём мире и их забвение у себя дома. Это было тем более неприятно, что даже революции на американском континенте говорили и действовали так, словно
знали наизусть сценарии революций во Франции, России или Китае, но слыхом не слыхивали об Американской. Возможно, менее драматичны, но едва ли менее реальны были последствия оборотной стороны этого мирового неведения – собственной американской неспособности вспомнить, что революция дала жизнь Соединённым Штатам и что республика возникла не в результате некоей “исторической необходимости” или естественного развития, но как результат сознательного акта: основания свободы. Не в последнюю очередь именно этим провалом в памяти объясняется сильный страх революций в Америке, поскольку именно этот страх в глазах всего мира является свидетельством правоты собственных представлений о революции, списанных с образца Французской или Русской революций. Страх революции был скрытым leitmotif (лейтмотив – нем.) послевоенной внешней политики Америки в её отчаянных попытках стабилизировать статус кво, в результате чего американская сила и престиж употреблялись и злоупотреблялись для поддержания обветшалых и коррумпированных политических режимов, ставших объектами ненависти и презрения среди своих собственных сограждан.Эта неспособность вспомнить вкупе с неспособностью понять проявлялись особенно наглядно, когда, в редкие моменты, враждебный диалог с Советской Россией затрагивал принципиальные вопросы. Когда нам говорили, что под свободой мы понимаем свободное предпринимательство, мы практически ничего не делали, чтобы опровергнуть эту чудовищную ложь, и слишком часто мы вели себя так, будто не самом деле в послевоенном конфликте между “революционными странами” Востока и Западом во главу угла поставлен вопрос о богатстве и изобилии. Богатство и экономическое процветание, утверждали мы, являются плодами свободы, тогда как мы должны были первыми знать, что подобного рода “счастье” наличествовало в Америке задолго до революции, и что его причиной было природное изобилие при “мягком правлении”, а не политическая свобода или нескованная необузданная “частная инициатива” капитализма, которая в отсутствии природных богатств вела повсеместно к несчастью и массовой бедности. Иначе говоря, свободное предпринимательство было чистым благом только в Америке, и оно представляет гораздо меньшее благо в сравнении с истинными политическими свободами, такими как свобода слова и мысли, собраний
и ассоциаций, даже в лучших условиях. Экономический рост в один прекрасный день может обернуться из блага проклятием, и ни при каких обстоятельствах он сам по себе не способен привести к свободе, как не может он служить свидетельством наличия свободы в той или иной стране. Соревнование между Америкой и Россией в области производства и стандартов жизни, технического развития и научных открытий, могло представлять интерес во многих отношениях; результат его мог даже быть понят как свидетельство жизнеспособности участвующих в нём наций, преимуществ их общественных и экономических систем. На один только вопрос оно не могло никогда, при любом его исходе, дать ответ, а именно, какая форма правления лучше: тирания или же свободная республика. Следовательно, с точки зрения Американской революции, ответом на “угрозу” коммунистов сравняться и превзойти западные страны в производстве потребительских товаров и экономическом росте, должна была стать радость по поводу новых благоприятных перспектив, открывающихся перед народами Советского Союза и его союзников, вздох облегчения, что по крайней мере в борьбе с бедностью во всемирном масштабе Запад и Восток едины, после чего стоило бы напомнить нашим оппонентам, что причина “идеологических” конфликтов кроется не в различии между двумя экономическими системами, но исключительно в конфликте между свободой и тиранией, между “институтами свободы”, порождёнными триумфальной победой революции, и различными формами господства (от однопартийной диктатуры Ленина до сталинского тоталитаризма и попыток Хрущёва ввести просвещённый деспотизм), последовавшими за поражением революции.Наконец, неоспоримой истиной и одновременно с тем прискорбным фактом является, что большинство так называемых революций, не будучи в состоянии достигнуть
constitutio libertatis, [лат, установить свободу в смысле свободного конституционного правления –прим. наше – И. К.], оказались даже неспособны обеспечить конституционные гарантии гражданских прав и свобод, преимуществ “ограниченного правления”, правового государства; и не следует забывать, что дистанция между конституционным, правовым государством и тиранией, столь же, а возможно, и более, велика, нежели дистанция между первым и свободой. Однако все эти соображения, сколь бы велика не была их значимость, не должны вести к смешению гражданских прав с политической свободой или отождествлению этих предпосылок цивилизованного правления с самой сутью свободной республики. Ибо, говоря в общем, политическая свобода либо означает право “быть участником в управлении”, либо не означает ничего.В то время как последствия этого неведения, забвения и неспособности вспомнить лежат на поверхности и по своей природе просты и элементарны, того же нельзя сказать об историческом процессе, приведшем ко всему этому. Не так давно вновь прозвучало, причём в яркой и весьма убедительной форме, что в целом к характерным чертам “американского склада ума” принадлежит равнодушие к “философии”, и что, в частности, революция в Америке явилась результатом не “книжных” штудий или эпохи Просвещения, но “практических” опытов колониального периода, которые сами собой дали жизнь республике. Этот тезис, умело и обстоятельно отстаиваемый американским историком Дэниэлом Бурстином, обладает некоторыми достоинствами, поскольку должным образом оценивает огромную роль колониального опыта в подготовке революции и установлении республики, и всё же он едва ли способен выдержать более пристальное рассмотрение (1). Определённое недоверие “отцов-основателей” к философским обобщениям явилось, вне сомнения, составной частью их английского багажа, однако даже поверхностного знакомства с их писаниями достаточно, чтобы удостовериться, что в области “древнего и современного благоразумия” они были более образованны нежели их коллеги в Старом Свете, гораздо чаще обращались за советом в своих делах к книгам. Более того, сами книги, к которым они обращались, были теми же, что властвовали над умами в Европе; и если верно, что опыт “участия в управлении был сравнительно неплохо известен в Америке до революции, в то время
когда европейские “литераторы” должны были доходить до его значения либо путём измышления утопий, либо “перерывая архивы античной” истории, не менее верно, что содержание того, что в первом случае было реальностью, а во втором лишь мечтой, обладало удивительным сходством. Невозможно обойти принципиальный для политики факт, что приблизительно в один исторический момент по обе стороны Атлантики освящённая временем монархическая форма правления была свергнута и установлена республика.Тем не менее, в то время как неопровержимо, что благодаря громадной эрудиции и теоретической глубине, и то, и другое очень высокого калибра, был возведён остов американской республики, не менее неопровержимо, что этот интерес к политической мысли и теории почти сразу же иссяк после того, как задача была решена (2). Как уже указывалось ранее, по моему мнению, эта утрата “чистого” теоретического интереса к политическим вопросам была не “гением” американской истории, но, напротив, основной причиной, почему Американская революция не принесла ожидаемых плодов для мировой политики. Вдобавок к этому, мы склонны считать, что чрезмерный интерес, проявленный европейскими мыслителями и философами к Французской революции, невзирая на её трагическую развязку, способствовал её всемирной рекламе. К этой неспособности послереволюционной мысли извлечь необходимые уроки из прошедшего и восходит своими корнями провал в исторической памяти Америки (3). Ибо тогда как всякая мысль начинается с воспоминания, ни одно воспоминание не может избежать опасности забвения если оно не прошло очищение в мысли и не отлилось в теоретических понятиях, что только и способно придать ему вторую жизнь. Всему испытанному и пережитому суждено то же забвение, что и живому слову и делу если о них не говорят снова и снова
. Эти беспрестанные разговоры и есть то, что спасает дела смертного человека от неминуемого забвения; однако они в свою очередь уходят в небытие если только не отливаются в определённые понятия, вехи для будущего осмысления и воспоминания (4). Во всяком случае, результатом “американской” неприязни к концептуальной мысли явилось, что интерпретации американской истории после Токвиля пошли на поводу у теорий, основывающихся на любом опыте, только не американском. В нашем же столетии Америка была, как кажется, готова заимствовать и возвести в ранг откровения практически любую идею, которую не “закат Запада”, но распад европейской политической и социальной системы после Первой Мировой войны вынес на интеллектуальную авансцену, сколь бы нелепой и вычурной она не была. Эта странная доверчивость, не чуравшаяся и искажения, к той массе псевдонаучной бессмыслицы, в особенности в социальных и психологических науках, может быть отчасти объяснена тем фактом, что эти теории, пересеча Атлантику, лишились своей реальной основы а вместе с ней и всех тех ограничений, которые накладывает здравый смысл. Однако причиной проявленной Америкой готовности к восприятию искусственных идей и притянутых за волосы теорий могло быть просто то, что человеческий ум (первейшая задача коего – всестороннее понимание реальности и выражение её на концептуальном языке) для своего функционирования нуждается в понятиях; на безрыбье же и рак – рыба.Очевидно, что в результате провала мысли и памяти, был потерян и революционный дух. Если оставить в стороне личные мотивы и практические цели, и отождествить этот дух с принципами, которые дали толчок людям революций по обе стороны Атлантики, то следует признать, что традиция Французской революции (а это – единственная революционная традиция, возымевшая
хоть какие-то последствия) не сохранила их лучше, чем удалось это сделать либеральному, демократическому или откровенно антиреволюционному, течениям в американской политической мысли (5). Мы уже упоминали эти принципы ранее и, следуя политическому языку 18-го века, мы назвали их публичной свободой, публичным счастьем, публичным духом. После того как революционный дух был забыт, от них остались: гражданские свободы, личное благополучие наибольшего числа людей и публичное мнение как величайшая сила, управляющая эгалитарным, демократическим обществом. Произошедшая трансформация с большой точностью соответствует вторжению общества в сферу публичности: так, словно исконно политические принципы были переведены в социальные “ценности”. Однако подобная трансформация была невозможна в странах испытавших воздействие Французской революции. Из её школы революционеры вынесли урок, что вдохновлявшие её на первых порах принципы были вытеснены голыми силами необходимости и нужды, и они закончили своё ученичество с твёрдым убеждением, что именно революция обнажила, чем в действительности являются эти принципы – грудой хлама. Отмести этот “хлам” как мелкобуржуазные предрассудки было тем легче, что общество монополизировало эти принципы и извратило их, превратив в “ценности”. Настойчиво преследуемые “социальным вопросом”, т. е. призраком огромных масс бедных, которых каждая революция обязана освободить, они вынуждены были постоянно прибегать к самым крайним средствам из арсенала Французской революции, питая смутную надежду, вопреки всей очевидности, будто насилие способно победить бедность. Это, конечно же, был жест отчаяния; ибо признай они, что самый наглядный урок преподанный Французской революцией состоял в невозможности средствами la terreur достичь le bonheur (террор и счастье – фр.), они также должны были признать, что никакая революция, никакое основание нового политического организма, невозможна там, где массы задавлены нищетой.Революционеры 19-го и 20-го веков, в резком отличие от своих предшественников в 18-м, были людьми отчаянными, и революции всё более и более притягивали таких отчаянных, тех “несчастных представителей населения … которые в период затишья нормального правления обретаются на уровне ниже среднего человеческого; но которые в моменты бурных всплесков гражданского насилия могут выйти из своего духовного подполья и обеспечить перевес в силе любой партии к которой они присоединятся” (6). Эти слова Мэдисона с точностью схватывают суть дела, с той только поправкой, что в применении их к европейским революциям, эта смесь несчастных и худших вновь получила свой шанс выйти из “духовного подполья” благодаря отчаянию лучших, которые после катастрофы Французской революции должны были знать, что их дело безнадёжно, но честь которых не давала им оставить дело революции – частично оттого, что ими двигало сострадание и постоянно и глубоко уязвляемое чувство справедливости, отчасти потому, что им также было известно, что “действие, а не покой, доставляет нам удовольствие”. В этом смысле, изречение Токвиля: “В Америке имеются мнения и страсти демократии; в Европе мы всё ещё имеем страсти и мнения революции” (7), не потеряло своей значимости вплоть до сего дня. Однако этим страстям и мнениям также не удалось сохранить революционный дух по той простой причине, что они никогда его не выражали; напротив, именно подобного рода страсти и мнения, выпущенные на волю Французской революцией, практически уже в самом начале задушили её оригинальный дух, т. е. принципы публичной свободы, публичного счастья и публичного духа, которые в первых актах вдохновляли её действующих лиц.
Если подходить к вопросу абстрактно и поверхностно, нетрудно обозначить основное препятствие тому, чтобы подобрать правдоподобную дефиницию революционному духу, не полагаясь исключительно, как мы это делали ранее, на терминологию вошедшую в оборот до революций. В той мере, в какой наиболее значительным событием всякой революции выступает акт основания, дух революции содержит два элемента, представляющиеся для нас непримиримыми и даже противоположными. Акт основания новой формы правления предполагает повышенное внимание к стабильности и долговечности новой структуры; с другой стороны, опыт тех, кто принимал участие в её создании совершенно отличного свойства. Он представляет собой освежающее соприкосновение с человеческой способностью начинания, ту радость, которая всегда сопровождала рождение чего-то нового на земле. Возможно, сам факт, что эти два элемента, озабоченность стабильностью и духа нового, сделались противоположностями в политической мысли и терминологии – первый прочно ассоциируется с консерватизмом, тогда как второй является монопольным объектом притязаний прогрессивного либерализма – должен быть отнесён к числу симптомов того, что мы сбились с верного пути. Ничто в конечном счёте не наносит большего ущерба пониманию политических проблем и их серьёзному обсуждению, как автоматические мыслительные реакции, обусловленные проникшими во все поры идеологиями, которые сами возникли вслед за революциями и явились их результатом. И в этом отношении далеко не безразлично, восходит ли наш политический словарь к классической, римской или греческой, античности, или же он со всей определённостью берёт начало в революциях 18-го века. Иначе говоря, в той мере, в какой наша политическая терминология вообще является современной, она является революционной по своему происхождению. Основной же характеристикой этого современного, революционного словаря представляется его постоянное оперирование парами противоположностей: правый и левый, реакционный и прогрессивный
, консерватизм и либерализм, приведём для примера только несколько взятых наугад. Что эта мыслительная привычка возникла в связи с революциями, лучше всего проиллюстрировать на развитии новых значений, даваемых, например, понятиям демократии и аристократии, столь же древним, как наша политическая мысль; однако противопоставление демократов и аристократов не старше революций. Конечно, эта противоположность не случайна и берёт своё начало и конечное обоснование в революционном опыте как целом, однако, суть проблемы в том, что в акте основания они были не двумя взаимно исключающими противоположностями, но двумя сторонами одного явления, и лишь после того как революции завершились победой или поражением, они разделились, закоснели в идеологиях, и стали противостоять друг другу.В терминологическом аспекте, усилие вновь обрести утраченный дух революции должно до некоторой степени состоять в попытке мыслить вместе то, что наш сегодняшний словарь преподносит нам как противоположности и антонимы. С этой целью неплохо было бы ещё раз вернуться к тем мыслителям и теоретикам, которые способствовали подготовке революций, проявив повышенный интерес к публичным делам, не предвидя или не желая революции. Среди них Джеймс Харрингтон и Монтескьё, опять-таки, более значительные фигуры, нежели Локк и Руссо. Что наиболее примечательно в предреволюционной политической мысли Нового времени, так это повсеместно выраженная забота о долговечности и стабильности эмансипированной от религии, чисто мирской сферы, и эта забота находилась в вопиющем противоречии с общим духом эпохи, как он выражался в науках, искусствах, и самой философии, где превыше всего ценилась новизна как таковая. Их мыслью завладел “процесс”, и всё представлялось им находящимся в “поступательном” движении, тогда
как политический дух того времени, совсем напротив, не питал ни к чему большего недоверия, как к изменению, беспрестанному возвышению и падению империй. Другими словами, политический дух современности был рожден, когда люди уже более не удовлетворялись беспрестанным возвышением и падением империй. Так, словно бы сердцам людей ничто не было ближе, как создать нечто прочное и стабильное, в котором то новое что пыталась совершить их эпоха, могло занять своё место.Тем самым, республиканская форма правления импонировала предреволюционным политическим мыслителям не по причине своего эгалитарного характера (неверное и обманчивое отождествление республиканского и демократического строя датируется с 19-го века), но потому что представлялось наиболее стабильной и долговечной из государственных форм. Сказанное также объясняет то незаслуженно большое почтение, какое 17-й и 18-й века питали к Спарте и Венеции, двум республикам, которые только тем пришлись ко двору весьма ограниченному историческому знанию того времени
, что считались наиболее стабильными и прочными государствами в истории. Отсюда также весьма курьёзное пристрастие людей революции к “сенатам” – слово, каким они нарекли институты не имевшие ничего общего с римской или даже венецианской моделью, но которое они любили, потому что оно наводило их на мысль о ни с чем не сравнимой стабильности основывавшейся на авторитете (8). Даже общеизвестные возражения “отцов-основателей” против демократии как формы правления как правило обходит её эгалитарный характер; аргументация сводилась к тому, что античная история и теория доказали “беспокойную” природу демократии, её нестабильность – жизнь демократии “была в общем столь же недолговечной, сколь насильственной её смерть” (9) – равно как непостоянство её граждан, недостаток у них публичного духа, ту лёгкость, с какой они подпадают под власть публичного мнения и массовых эмоций и настроений. Ничто “кроме постоянного органа неспособно сдержать безрассудство демократии” (10).Слово “демократия” в 18-м веке ещё означало форму правления, а не идеологию или показатель предпочтения низших классов, и отвергалась потому, что считалось, будто в ней заправляет публичное мнение там, где должен преобладать публичный дух; признаком же этого извращения служило единодушие её граждан:
ибо “когда люди употребляют свой разум беспристрастно и свободно по множеству различных вопросов, они неизбежно по некоторым из них приходят к различным мнениям. Когда же ими управляет общая страсть, их мнения, если позволительно их так назвать, будут одинаковыми” (11). Эта мысль Мэдисона примечательна в нескольких отношениях. Простота её несколько обманчива, в ней можно увидеть распространённое во времена Просвещения противопоставление разума и страсти, мало что дающее в плане понимания человеческих способностей, однако имеющее то огромное практическое достоинство, что обходится без способности воли – наиболее изощрённой и самой опасной из современных идей и заблуждений (12). Однако не это интересует нас здесь; в данном случает более важным представляется содержащийся в этих строках намёк на радикальную несовместимость между властью единодушного “публичного мнения” и свободой мнения, поскольку истина заключается в том, что не существует возможности формирования мнения там, где все мнения сделались одинаковыми. Так как никто не в состоянии составить своё собственное мнение без учёта множества мнений остальных, господство публичного мнения угрожает даже мнению тех немногих, кто способен осмелиться не разделять его. В этом одна из причин бесплодности оппозиции в одобряемой народом тирании. Голос немногих в этих обстоятельствах утрачивает свою силу и убедительность не только и не столько по причине подавляющей власти большинства; публичное мнение в силу своего единодушия вызывает единодушную оппозицию, убивая тем самым подлинные мнения. В этом кроется причина, почему “отцы-основатели” склонны были ставить власть основанную на публичном мнении на одну доску с тиранией; демократия в этом смысле была для них ни чем иным, как переряженным в новые одежды деспотизмом. Следовательно, их отвращение перед демократией продиктовано не столько старым страхом перед распущенностью или возможностью борьбы между партиями, сколько их опасениями фундаментальной нестабильности системы правления лишённой публичного духа и отданной во власть единодушным “страстям”.Институтом, изначально задуманным для защиты от власти публичного мнения или демократии, был Сенат. В отличие от судебного контроля, оцениваемого ныне как “уникальный вклад Америки в науку государственного управления” (13), оценить новизну и уникальность американского Сената оказалось гораздо труднее – отчасти потому, что не осознавалось что это древнеримское название употреблено, как уже указывалось, по ошибке, частично оттого, что верхняя палата Конгресса автоматически уподоблялась Палате Лордов английского парламента. Политический упадок Палаты лордов в государственной системе Англии на протяжении последнего века, явившийся неизбежным результатом роста социального равенства, может служить достаточным доказательством тому, что подобный институт никогда не имел смысла в стране не знающей наследственной аристократии, или в республике, отстаивающей “абсолютное запрещение всех дворянских титулов” (14). И в самом деле, не имитация английской системы правления, но глубоко оригинальное постижение роли мнения в государственных делах, побудило основателей присовокупить к нижней палате, в которой была представлена “множественность интересов”, верхнюю палату, полностью отведённую для представительства мнения, на котором в конечном счёте “основываются все правления” (15). И множественность интересов, и разнообразие мнений рассматривались среди характеристик “свободного правления”; их публичное представительство было признаком республики в отличие от демократии, где “небольшое число граждан … собирается и лично управляет государством”. Однако система представительства, согласно людям революции, была чем-то гораздо большим, нежели просто техническим средством для управления в условиях большого населения, затрудняющих прямое участие в
делах управления. Представительство, т. е. ограничение небольшим и избранным кругом граждан должно было служить в качестве своего рода фильтра, призванного очищать как интерес, так и мнение, в целях предохранить их “от сумятицы, которую вносит толпа”.Интерес и мнение – что бы не думал на этот счёт Маркс, полагавший второе выражением первого – два совершенно различных политических феномена. В политическом плане, интересы проявляются только как групповые интересы, и для очищения подобных групповых интересов вполне достаточно, чтобы они были представлены таким образом, что их частный характер сохранялся при всех условиях, даже при том, когда интерес одной группы совпадает с интересом большинства. Мнения, напротив, никогда не принадлежат группам, но исключительно отдельным лицам, которые “употребляют свой разум бесстрастно и свободно”, и никакое множество, масса, будь она частью общества или же всем обществом, никогда не будет в состоянии сформировать мнение. Мнения возникают везде, где люди свободно общаются, коммуницируют друг с другом и имеют право сделать свои взгляды достоянием гласности; однако эти взгляды, будучи чрезвычайно разнообразными, также нуждаются в очищении и представительстве. Первоначально специфическая функция Сената в том и заключалась
, чтобы служить “медиумом”, через который должны были проходить все публичные взгляды дабы доказать свою пригодность. Даже при том, что мнения составляются отдельными лицами и должны оставаться их собственностью, никакой отдельный человек – ни обладающий мудростью философов, ни божественно озарённым разумом, согласно эпохе Просвещения, общим для всех людей, - не могут справиться с задачей просеивания мнений, пропускания их через сито интеллекта с тем чтобы отделить зёрна от плевел, и тем самым поднятия их до уровня публичных взглядов. Ибо “разум человека, подобно самому человеку, робок и осторожен когда предоставлен самому себе, и обретает твёрдость и уверенность в тем большей мере, чем более число согласных с ним” (17). Так как мнения формируются и проверяются в процессе обмена мнениями, различия и конфликты между ними могут быть как-то сглажены, опосредствованы путём пропускания их через особый посредующий орган – Сенат - состоящий из людей специально избранных для этой цели; эти люди по отдельности не являются мудрецами, однако вместе они составляют институт, целью которого выступает достижение мудрости в публичных делах, даже при всём том, что сам этот институт не был застрахован от всех недостатков и просчетов, присущих человеческой мудрости.Мнение, его значение для сферы политики, в общем, и его роль в управлении государством, в частности, было открыто в самом процессе революции. Это, конечно, не вызывает удивления. То, что любой авторитет в конечном счёте основан на мнении никогда не демонстрировалось с большей наглядностью, чем в момент, когда внезапно и неожиданно всеобщий отказ повиноваться послужил толчком к тому, что впоследствии вылилось в революцию. Несомненно, этот момент – возможно, самый драматический момент в истории – широко открывает двери для демагогов всех мастей и оттенков, однако о чём ещё удостоверяет даже революционная демагогия, как не о справедливости той истины, что все режимы, старые и новые, “основываются на мнении”? В отличие от человеческого разума, человеческая власть не только “робка и осторожна” будучи предоставлена сама себе, она попросту не существует без поддержки других; самый могущественный король и последний из тиранов бессильны когда никто не повинуется им, т. е. не поддерживает путём повиновения, ибо в политике повиновение и поддержка – одно и то же. Мнение было открыто одновременно Французской и Американской революциями, однако только последняя (и это лишний раз показывает сколь высока была её продуктивность в области политики) знала, каким образом встроить прочные институты для представительства мнений в саму структуру республики. Какова была альтернатива, нам очень хорошо известно из хода Французской революции и тех что за ней последовали. Во всех них хаос не получивших представительства и не прошедших очистку мнений – ибо не было посредующей инстанции, медиума через которого их можно было бы пропустить – выкристаллизовался под давлением чрезвычайных обстоятельств во множество конфликтующих массовых сентиментов, ожидающих “сильную руку”, которая отлила бы их в единодушное публичное мнение, означающее смерть всех мнений. В повседневной действительности же альтернативой был плебисцит, единственный институт почти в точности отвечающий требованиям необузданной власти публичного мнения; и как публичное мнение означает смерть мнениям, так и плебисцит кладёт конец избирательному праву, которое как минимум даёт гражданам право выбирать и контролировать своё правительство.
По своей новизне и уникальности учреждение Сената сопоставимо с открытием судебного контроля как тот представлен в институте Верховного Суда. В теоретическом плане, остаётся только отметить, что в этих двух приобретениях революции – прочном институте для мнения и прочном институте для суждения – “отцы-основатели” оставили далеко позади свои собственные дореволюционные идеи; этим они дали ответ на расширившийся горизонт опытов, открытых революцией. Ибо эти стержневые идеи, вокруг которых вращалась предреволюционная мысль того столетия и которые определяли теоретическую сторону дебатов революционного времени была власть, страсть и разум: власть государства контролирует страсть общественных и экономических интересов и, в свою очередь, контролируема разумом индивида. В этой схеме, по всей очевидности, мнению и суждению отводилась место среди способностей
разума; однако острота проблемы в том, что эти две в политическом отношении наиболее важные рациональные способности были почти полностью забыты традицией как политической, так и философской, мысли. Естественно, что не теоретический или философский интерес заставил людей революции обратить внимание на важность этих способностей; они могли смутно помнить о тех жестоких ударах, какие сперва Парменид, а затем Платон, нанесли репутации мнения, с тех пор понимаемом как противоположность истине, однако они, определённо, не пытались сознательно восстановить мнение в прежнем ранге и достоинстве в иерархии человеческих способностей. То же справедливо в отношении к суждению, где нам, чтобы что-либо выяснить о его сущностном характере или той значительной роли, какую оно играет в сфере человеческих дел, следовало бы скорее обратиться к кантовской философии, нежели к людям революции. Преодолеть “отцам-основателям” их узкую и ограниченную рамками традиции общую концептуальную схему помогло настойчивое желание гарантировать стабильность и долговечность новому творению, придать каждому фактору политической жизни статус “прочного института”.Ничто, пожалуй, не свидетельствует с большей ясностью о тех новых, секулярных, мирских устремлениях Нового времени, которые выносят на свет революции, чем эта всепоглощающая озабоченность
“perpetual state” (англ.), “долговечным государством”, которое, как не уставали повторять колонисты, должно сохраниться для их “потомков”. Было бы ошибкой не замечать разницы между этими упованиями и позднейшим желанием буржуазии обеспечить будущность своих детей и внуков. За ними стояло глубоко прочувственное желание Вечного Града на земле и плюс к нему убеждение, что “правильно организованная республика (Commonwealth) может при всех внутренних условиях быть столь же бессмертной и долговечной, как сим Мир” (18). И это убеждение было столь же нехристианским, столь радикально чуждым религиозному духу целого периода, отделяющего конец античности от Нового времени, что следовало бы вернуться к Цицерону чтобы обнаружить нечто сходное по общему духу и тональности. Ибо слова Св. Павла “возмездие за грех – смерть” лишь применили к отдельному человеку то, что Цицерон вывел в качестве закона управляющего жизнью и смертью сообществ: “Civitatibus autem mors ipsa poena est, quae videtur a poena singulos vindiocare; debet enim constituta sic esse civitas ut aeterna sit” (19).В политическом плане, наиболее существенным моментом христианской эры было то, что этот античный взгляд на мир и человека – смертные люди в вечном или потенциально вечном мире – был повёрнут на 180
º: люди обладающие вечной жизнью в вечно изменчивом мире, конечный удел которого – смерть; в то время как признаком Нового времени явилось новое обращение к античности в поиске прецедента собственной озабоченностью будущностью дела человеческих рук на земле. Можно прийти к выводу, что степень секуляризованности мира и мирскости людей в каждую данную эпоху лучше всего мерить той мерой, в какой озабоченность будущим мира берёт в головах людей верх над озабоченностью своей собственной судьбой в загробной жизни. Таким образом ситуацию, когда даже весьма религиозные люди желали не только правления, которое оставляло бы им свободу для работы над своим индивидуальным спасением, но хотели “установить правление … более соответствующее достоинству человеческой природы … и передать подобное правление своим потомкам вместе со средствами защиты и сохранения его вовеки” (20), можно считать приметой секулярности новой эпохи. Подобным образом, во всяком случае, виделись подлинные намерения пуритан Джону Адамсу, и степень его правоты равняется той мере, в какой сами пуритане не были лишь пилигримами на земле, но “отцами-пилигримами” – основателями колоний с их потребностями и нуждами не в потустороннем, но в этом населённом смертными людьми мире.Что было справедливо по отношению к предреволюционной политической мысли и основателям колоний, ещё более справедливо по отношению к революциям и “отцам-основателям”. Эта новая “озабоченность долговечным государством”, столь ясно различимая в писаниях Харрингтона (21), побудила Адамса назвать “божественной” новую политическую науку, имеющую дело с “институтами существующими на протяжении многих поколений”; и нигде этот специфически современный аспект революций не получил более краткого и яркого выражения, как в изречении Робеспьера: “Смерть – это начало бессмертия”. Красной нитью эта озабоченность постоянством и стабильностью, но в более спокойной и деловой форме, проходит через конституционные дебаты, два крайних, но тем не менее составляющих единое целое, полюса в которых занимали Гамильтон и Джефферсон. Первый считал, что конституции “должны необходимо быть постоянными и [что] они не могут предусмотреть все возможные изменения вещей” (22), тогда как Джефферсон, не менее заинтересованный в “прочном основании для свободной, долговечной и хорошо управляемой республики”, был убеждён, что “ничто не является неизменным кроме прирождённых и неотчуждаемых прав человека”, поскольку они являются делом рук не человека, но его Творца
(23). Тем самым вся дискуссия о распределении и балансировке властей, центральном вопросе конституционных дебатов, всё ещё частично велась на языке древнего понятия смешанной формы правления, которая, сочетая монархический, аристократический и демократический элементы в одном политическом организме, была бы способна остановить цикл вечного изменения, возвышения и падения империй, и установить вечный город.Просвещённое и непросвещённое мнения равно сходятся, что эти два абсолютно новых института американской республики: Сенат и Верховный Суд, представляют наиболее “консервативные” факторы в государственной системе, и они, без сомнения, правы. Вопрос только в том, достаточно ли было того, что делалось для стабильности и что так хорошо отвечало новой потребности в постоянстве, для сохранения духа, заявившего о себе в ходе самой революции. Очевидно, что нет.
II
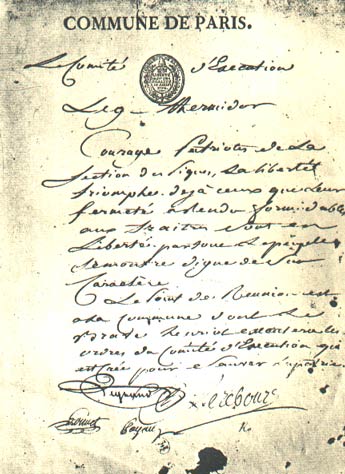
прокламация парижской коммуны от 9 термидора
Неспособности послереволюционной мысли вспомнить революционный дух и осмыслить его концептуально предшествовала неспособность революции обеспечить его прочным институтом. Завершением революции, если, конечно, она не заканчивается катастрофой террора, является установление республики, этой “единственной формы правления не находящейся в постоянной открытой или тайной войне с человеческими правами” (24). Однако ни в одной современной республике не предусмотрено пространства, не оставлено места как раз для тех качеств, которые играли первейшую роль в её построении. И это не просто просчёт; дело выглядит так, как если бы те, кто так хорошо знал как обеспечить республику властью и свободами её граждан, возможностью формирования суждений и мнений, заботы об интересах и правах, попросту забыли, что в действительности чтили превыше всего остального: возможность действия и почётную привилегию быть начинателями чего-то совершенно нового. Определённо, они не хотели лишать этой привилегии своих последователей, но они также вовсе не склонны были перечёркивать свою работу, хотя Джефферсон, более других уделявший внимание этой проблеме, был близок к тому. Проблема эта была весьма проста и чисто логически представлялась неразрешимой: если основание было целью и концом революции, то в таком случае революционный дух был не просто духом начинания чего-то нового, чего-то такого,
что должно было сделать дальнейшие начинания излишними; прочные институты, воплощающие этот дух и поощряющие его на новые свершения, были бы самообманом. Из чего, к сожалению, как кажется, должно следовать, что ничто не представляет большей угрозы для свершений революций, чем породивший её дух. Должна ли свобода, в самом возвышенном её смысле как свобода действовать, быть ценой уплаченной за основание? Это затруднение, а именно, что принцип публичной свободы и публичного счастья, без которого никакая революция никогда не произошла бы, должен остаться привилегией поколений основателей, не только произвело на свет путаные и отчаянные теории Робеспьера насчёт различия между революционным и конституционным правительством, упомянутые нами ранее, но с тех пор не оставляло революционное мышление.Никто в Америке не воспринимал этот по-видимому неизбежный изъян в структуре республики с большей ясностью и страстной озабоченностью, нежели Джефферсон. За его периодическими и временами яростными выпадами против американской Конституции и, в частности, тех, кто “взирает на конституции с ханжеским почтением, представляя их чем-то наподобие ковчега завета, чересчур святого, чтобы к нему прикасались” (25), стояло чувство негодования по поводу той несправедливости, что только его поколение должно иметь возможность “начинать мир снова”. Для него, как и для Пейна, было очевидно, “тщеславие и самомнение желания править из могилы”, что было бы “самой возмутительной и вызывающей изо всех тираний” (26). Когда он говорил: “Мы ещё не настолько усовершенствовали наши конституции, чтобы осмелиться сделать их неизменными”, он тут же прибавлял, явно опасаясь такого возможного усовершенствования: “Могут ли они не изменяться? Думаю, что нет”; ибо, в заключение, “Ничто не является неизменным кроме прирождённых и неотчуждаемых прав человека”, среди которых он числил право на восстание и революцию (27). Когда, в бытность его в Париже, до него дошли слухи о восстании Шейса в Массачусетсе
[Народное восстание 1786-го под руководством Даниеля Шейса (1747-1825), бедного фермера, ветерана войны за независимость – прим. наше – И. К.], он не только не был нисколько не обеспокоен, хотя соглашался, что его оценка “основана на неведении”, но с энтузиазмом его приветствовал: “Упаси Бог чтобы у нас хотя бы раз в двадцать лет не случалось подобного восстания”. Самого того факта, что народ восстал и действует по собственному почину было для него достаточно, безотносительно того, кто был прав и кто виноват в данном конкретном случае. Ибо “древо свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов. Таков естественный уход за ним” (28).Эти последние строки, написанные за два года до начала Французской революции и не имеющие аналогов в позднейших писаниях Джефферсона (29), могут снабдить нас ключом к ошибке, затемнявшей целостную проблематику действия в мышлении людей революции. В самой природе революционного опыта было рассматривать феномен действия исключительно через призму сноса старого и возведения нового. Хотя публичная свобода и публичное счастье, будь то мечта или реальность, были известны им ещё до революции, воздействие революционного опыта изгладило все представления о свободе не предваряемой процессом освобождения, свободе не черпавшей свой пафос из акта освобождения. В той мере в какой
они всё же обладали позитивным понятием свободы превосходившем идею успешного освобождения от тиранов и от необходимости, они отождествили её в конечном счёте с актом основания, созданием конституции. Джефферсон, извлеча урок из катастроф Французской революции, в которой насилие освобождения перечеркнуло все попытки основать надёжное пространство для свободы, перешёл от своего раннего отождествления действия с восстанием и сносом старого, к отождествлению его с основанием и строительством нового. Так, он предложил обеспечить в самой Конституции возможность “её ревизии в установленные сроки”, которые примерно соответствовали периодам смены поколений. Его обоснование, согласно которому каждое новое поколение имеет “право избирать для себя форму правления какую оно сочтёт наиболее подходящей для своего собственного счастья”, звучит чересчур фантастически (особенно если проанализировать данные по смертности в то время, по которым выходило, что “новое большинство” бывало каждые девятнадцать лет) чтобы быть принятыми всерьёз; более того, весьма маловероятно, чтобы Джефферсон даровал будущим поколениям устанавливать нереспубликанские формы правления. Главная идея его состояла не в реальном изменении форм правления, ни даже в особом положении в Конституции, обеспечивающем её возможностью “периодического пересмотра, от поколения к поколению, до скончания времени”. То была несколько неуклюжая попытка закрепления за каждым поколением “права делегировать представителей в конвент” с целью найти пути и средства, чтобы мнения всего народа были “честно, полно и мирно выражены, обсуждены и по ним вынесены решения общим разумом общества” (30). Другими словами, он хотел обеспечить возможность точного повторения всего процесса действия сопровождающего ход революции, и если в своих ранних работах он рассматривал это действие главным образом под углом освобождения, в терминах насилия, которое предшествовало Декларации независимости и последовало за ней, позднее он гораздо больше внимания уделил конституционному творчеству и установлению нового правления, иными словами, тем родам деятельности, которые сами по себе составляют пространство свободы.Несомненно, только очень серьёзные мотивы могли пробудить Джефферсона, обладающего, бесспорно, здравым смыслом и известного своим практическим складом ума, выдвинуть эти проекты периодически повторяющихся революций. Даже в их наименее радикальной форме как лекарства против “бесконечного цикла угнетения, восстания, реформ”, они либо периодически выводили бы из равновесия весь политический организм, либо, более вероятно, низвели акт основания до чисто рутинного мероприятия, в случае чего даже память о том, что он более всего хотел сохранить – “до скончания времени, если что-либо человеческое способно просуществовать столь долго” – была бы утрачена. Однако причина, почему Джефферсон на протяжении всей своей долгой жизни был увлечён такими неосуществимыми проектами заключалась в том, что он был единственным из американских революционеров, кто знал, хотя может и смутно, что хотя революция и дала народу свободу, ей не удалось обеспечить пространство, где эта свобода могла бы реально существовать. Не сам народ, но только его выборные представители, имели возможность заниматься “выражением, обсуждением и принятием решений”, т. е. деятельностями, которые и есть собственно свобода в позитивном смысле. И так как федеральное правительство и правительства штатов, считавшиеся важнейшими завоеваниями революции, взяв на себя все сколь-нибудь существенные политические дела, обязаны были по своей политической значимости намного превосходить
town-hall meetings, городские собрания, которые ещё Эмерсон рассматривал как “ядро Республики” и политическую “школу народа”, и в конце концов способствовать их упадку (31), можно прийти к выводу, что в республике Соединённых Штатов было меньше возможности для осуществления публичной свободы и наслаждения публичным счастьем, чем их существовало в колониях Британской Америки. Льюис Мамфорд не так давно показал, что политическое значение townships, городских и сельских общин, никогда не сознавалось основателями, и что неудача в инкорпорировании их как в федеральную, так и в конституции штатов была “одним из трагических просчётов послереволюционного политического развития”. Из всех основателей один только Джефферсон ясно предчувствовал эту трагедию, ибо главнейшее из его опасений состояло в том, как бы “абстрактная политическая система демократии не была лишена конкретных органов” (32).Эта неудача основателей в инкорпорировании городских общин и собраний в Конституцию, или скорее их неудача в изыскании путей и способов придать им новую форму в радикально изменившихся обстоятельствах, вполне объяснима. Основное их внимание было поглощено самой трудной из всех неотложных проблем стоявших перед ними – проблемой представительства – причем до такой степени, что представительное правление было для них основным признаком, отличающим республику от демократии. Конечно, прямая демократия, непосредственное участие народа в делах управления, невозможна уже хотя бы потому, что “помещение не вместит всех” (как Джон Селден за более чем сотню лет до этого объяснил основную причину создания Парламента). Именно в таком ключе велась ещё полемика о принципах представительства в Филадельфии; представительство понималось как простой заменитель прямого
политического действия самого народа. Этим подразумевалось, что депутаты действуют в соответствии с инструкциями полученными ими от своих избирателей, а не поступают в соответствии с собственными мнениями (33). Однако основатели, не в пример избранным представителям в колониальные времена, должны были первыми знать, насколько далеки их теории от реальности. Так, Джеймсу Уилсону в период конвента “представлялось весьма непростым делом с достоверностью выяснить”, в чём состоят настроения народа”; Мэдисону также было хорошо известно, что “ни один из членов конвента не может сказать, каковы мнения его избирателей в данный момент; ещё менее может сказать, что бы они думали если бы располагали той информацией и сведениями, которыми располагают депутаты здесь” (34). В результате этого они с одобрением, хотя, возможно, не без некоторых опасений, могли бы воспринять новую и опасную доктрину предложенную Бенджамином Рашем, согласно которой хотя “вся власть и принадлежит народу, он обладает ею только в дни выборов. После этого она становится собственностью его правителей” (35).Этих нескольких цитат вполне достаточно, чтобы в двух словах показать, что вопрос о представительстве, один из кардинальных и самых сложных вопросов современной политики со времени революций, на деле подразумевает ни больше, ни меньше, как решение о самом достоинстве политики как таковой. Традиционная альтернатива между представительством как простым заменителем прямого участия народа, и представительством как контролируемой народом властью народных представителей над народом, являет одну из тех дилемм, что не имеют решения. Если избранные представители настолько связаны инструкциями, что собираются вместе только для того, чтобы донести волю своих избирателей, то они могут рассматривать себя на выбор либо чем-то вроде мальчиков на побегушках, либо же наёмными экспертами, которые, подобно адвокатам, являются специалистами в представлении интересов своих клиентов. Однако в обоих случаях лежащая в основе предпосылка, несомненно, одна и та же: роль избирателей более необходима и важна, нежели та, что отведена им; они лишь платные агенты народа, который по тем или иным причинам или не желает, или не может посвящать себя публичным делам. Если же, напротив, представители понимаются в смысле ставших на ограниченное время назначенными управителями тех, кто их избрал – а без сменяемости не может быть, строго говоря, представительного правления – представительство означает, что избиратели уступили свою власть, хотя бы и добровольно, и что старое изречение
“Вся власть принадлежит народу” верно, как то сформулировал Бенджамин Раш, только в день выборов. В первом случае правительство деградирует до уровня простой бюрократической администрации, в которой собственно публичная сфера сходит на нет; нет пространства ни для того, чтобы видеть или быть видимыми в действии, spectemur agendo Джона Адамса, ни для дискуссий и принятия решений, гордости быть “участником в управлении” Джефферсона. К политическим вопросам относятся здесь такие, какие по необходимости должны решаться экспертами, а не те, что открыты для мнений и подлинного выбора; тем самым нет никакой нужды в “медиуме избранного органа граждан” Мэдисона, через который проходят и очищаются частные мнения прежде чем стать публичными взглядами. Во втором случае, несколько ближе подходящему к реальному положению вещей, вековое различие между управляющими и управляемыми, которое намеревалось устранить революция путём установления республики, заявляет о себе в новой форме; народ опять не имеет доступа к публичной сфере, опять дело государственного управления становится привилегией немногих, кто единственно получает возможность “exercise [their] virtuous dispositions”, “упражняться в добродетели”, в чём, согласно Джефферсону, и состоит собственно политическая деятельность. Результатом этой неразрешимой дилеммы будет то, что народ либо впадает в “летаргию, эту предвестницу смерти публичной свободы”, либо “накопляет дух сопротивления” любому избранному правительству, поскольку единственная сила остающаяся за ним – это “резервная сила революции” (36).От этих зол нет лекарства, ибо сменяемость, ротация, на которую основатели возлагали все свои надежды, вряд ли способна на большее, чем предотвратить правящую олигархию от замыкания в обособленную группу со своими особыми интересами. Сменяемость никогда не сможет дать каждому или хотя бы сколь-нибудь существенной части населения шанс временно стать “участником в управлении”. И никакое расширение избирательного права не может полностью предохранить от этого зла, ибо принципиальное отличие республиканского правления от монархии или аристократии состоит в праве равного доступа к публичным, политическим делам; и всё же не может не закрасться подозрение, что основатели сравнительно легко утешились той мыслью, что революция открыла политическое пространство по крайней мере для тех, чья склонность к “упражнению в добродетели” или чья страсть к различению были достаточно сильны чтобы избрать сопряжённую с немалым риском политическую стезю. Джефферсона, однако, это не могло утешить.
Он опасался “деспотизма основанного на выборах”, который был столь же плох, если не хуже, тирании, против которой они восстали: “Если однажды наш народ потеряет интерес к публичным делам, вы и я, и Конгресс, и ассамблеи, судьи и губернаторы, все мы обратимся в волков” (37). И если исторические события в Соединённых Штатах до настоящего момента едва ли подтвердили эти опасения, произошло это почти исключительно благодаря “политической науке” основателей в установлении системы правления, в которой разделение властей устанавливало посредством “сдержек и противовесов” контроль друг над другом. Спас Америку от опасностей предвиденных Джефферсоном, в конечном счёте, отлаженный государственный механизм; однако этот механизм не мог спасти народ от летаргии и отсутствия интереса к публичным делам, поскольку Конституция обеспечивала публичное пространство только для представителей народа, но не для него самого.Может показаться странным, что из американских основателей только Джефферсон задавался тем очевидным вопросом, как сохранить революционный дух после того, как революция удачно завершилась, однако причина отсутствия интереса к нему у остальных вовсе не в том, что они не были революционерами. Напротив, им мешало то, что они брали этот дух как нечто само собой
разумеющееся, ибо это был дух, который сформировался и окреп в колониальный период. К тому же так как никто не отнимал у народа институты служившие колыбелью революции, он едва ли догадывался о фатальной неспособности Конституции инкорпорировать и должным образом конституировать, основать заново, исконные источники его власти и публичного счастья. Именно по причине чрезмерной роли Конституции и опытов по основанию государства, эта неудача в инкорпорировании townships, городских и сельских общин с их town-hall meetings, исконных истоков всей политической активности в стране, равнялась для них смертному приговору. Как бы парадоксально это не звучало, именно под воздействием революции революционный дух в Америке начал отмирать, и не что иное как сама Конституция, это величайшее достижение американского народа, в конечном счёте обмануло его в самых благородных начинаниях.Чтобы лучше понять суть дела, а заодно воздать должное необыкновенной проницательности забытых предложений Джефферсона, нам следовало бы вновь переключить своё внимание на ход Французской революции, где дело обстояло совершенно противоположным образом. То, что для американского народа было предреволюционным опытом и тем самым не нуждалось в формальном признании и ннституционализации, во Франции явилось неожиданным и в значительной мере спонтанным последствием самой революции. Компетенция знаменитых сорока восьми секций Парижской Коммуны первоначально ограничивалось исключительно выборами представителей и посылкой делегатов в Национальное собрание. Эти секции, тем не менее, не удовлетворились отведённой им ролью и тут же конституировали себя в качестве самоуправляющихся органов, и уже не избирали из своего числа делегатов в Национальное собрание, но сформировали революционный муниципальный совет, Парижскую Коммуну, которой суждено было сыграть решающую роль в процессе революции. Более того, бок о бок с этими муниципальными органами и безо всякого влияния с их стороны, возникает большое число спонтанно образовавшихся клубов и обществ –
sociétés populaires (народные общества – фр.) – происхождение которых вообще никак не связано с задачей представительства, посылки уполномоченных делегатов в Национальное собрание. Их единственная цель, словами Робеспьера, состояла в том, чтобы “осведомлять, просвещать своих сограждан относительно истинных принципов конституции, распространять свет без которого конституция не была бы способна выжить”. Ибо выживание конституции зависело от “публичного духа”, который в свою очередь существовал только в “собраниях где граждане могли бы заниматься совместно делами представляющими публичный интерес, и в то же время насущнейшими интересами своего отечества”.Для Робеспьера, державшего речь в сентябре 1791-го перед национальным собранием с целью удержать делегатов от урезания политической власти клубов и обществ, публичный дух был тождественен с революционным духом. Мнение же Собрания в ту пору было таково, что революция окончена и что общества, рождённые ею, более не нужны, что “настало время сломать инструмент служивший
столь хорошо”. Не то чтобы Робеспьер отрицал, что революция завершилась, но, прибавлял он, ему не вполне понятно, почему вопрос стал в повестку дня: ибо раз уж они, как и он сам, признали, что целью революции является “завоевание и сохранение свободы”, то в таком случае клубы и народные общества были единственными местами в стране, где эта свобода реально могла существовать и стать доступной для граждан. Тем самым они были подлинными “опорами конституции”, не только потому, что из них вышло “большое число людей, которые однажды заменят нас”, но также потому, что они сами составляли “основания свободы”; препятствующие их деятельности были виновны в “попрании свободы”, и в числе преступлений против революции величайшим “было преследование обществ” (38). Однако как только Робеспьер пришёл к власти и сделался политическим главой нового революционного правительства – это произошло летом 1793-го, через несколько недель, даже не месяцев, после того, как были произнесены некоторые из приведённых здесь высказываний – он полностью пересмотрел свою позицию. Сейчас уже сам Робеспьер повёл неослабную войну против того, что он теперь именовал “так называемыми народными обществами”, насылая на них “великое народное общество всего французского народа”, единое и неделимое. Последнее, увы, в отличие от небольших народных обществ ремесленников и соседей, никогда не могло быть собранным в одном месте, ибо не было “помещения” способного “вместить всех”; оно может существовать только в форме представительства, в Палате Депутатов, в руках которой предположительно сосредоточена централизованная, неделимая власть французской нации (39). Единственное исключение он готов был сделать для якобинцев, причём не только потому, что их клуб принадлежал к его собственной партии, но, что более важно, потому что он никогда не был “народным” клубом или обществом; он возник в 1789-м из собрания Генеральных Штатов и с тех пор был типичным клубом для депутатов.Тот факт, что этот конфликт между правительством и народом, между теми, кто стоял у власти и теми, кто помогал им её достичь, между представителями и представляемыми, обратился в старый конфликт между управляющими и управляемыми и был по своей сути борьбой за власть, достаточно ясно и очевидно чтобы не нуждаться в дальнейших доказательствах. Сам Робеспьер до того как он стал главой правительства, частенько осуждал “заговор депутатов народа против народа” и “независимость представителей” от тех, кого они представляли, сравниваемую им с угнетением (40). Спору нет, эти слова вполне естественны в устах ученика Руссо, который, начнём с того, не верил в законность системы представительства – “народ, который представлен, не свободен, ибо воля не может быть представлена” (41); однако поскольку учение Руссо требует
union sacrée (священный союз – фр.), устранения всех различий и особенностей, включая различие между народом и правительством, этот аргумент может теоретически быть употреблён и в отличном смысле. И когда Робеспьер переменил свою позицию и обратился против обществ, он также мог сослаться на Руссо и мог вместе с Кутоном сказать, что до тех пор пока существуют эти общества “не может быть единого мнения” (42). На деле же Робеспьер нуждался не в великих теориях, но всего лишь в реалистической оценке хода революции, чтобы прийти к выводу, что Собрание едва ли оказывает какое-либо влияние на наиболее значительные события и дела, и что революционное правительство находится под таким давлением парижских секций и народных обществ, перед каким не смогло бы устоять никакое правительство и никакая форма правления. Одного взгляда на многочисленные петиции и обращения этих лет (которые лишь недавно были опубликованы) (43) вполне достаточно чтобы ощутить всю сложность положения людей в революционном правительстве. К ним обращались, дабы напомнить, что “только бедные помогали им”, и что теперь бедные желают “начать пожинать плоды” своих трудов; что “всегда вина законодателя”, если лицо бедного человека “выдаёт его нужду и нищету”, а его душа “скитается без сил и без добродетели”; что настало время продемонстрировать народу как конституция “может сделать их действительно счастливыми, ибо недостаточно повторять, что их счастье не за горами”. Короче, народ, организованный вне Национального собрания в свои собственные общества, информировал своих представителей, что “республика должна гарантировать каждому человеку средства к существованию”, что первейшая задача законодателей – объявить нищету вне закона.Существует, тем не менее, и другая сторона этого вопроса, и Робеспьер не был так уж неправ, когда приветствовал в обществах первые ростки свободы и публичного духа. Бок о бок с этими истошными требованиями “счастья”, которое на самом деле выступает предварительным условием свободы, но которое, увы, не способен выполнить ни один законодатель и ни одна конституция, соседствует совершенно отличный дух и совершенно иное понимание задач общества. Из регламента одной из парижских секций мы можем узнать, например, как люди организовались в общество – с президентом и вице-президентом, четырьмя секретарями, восемью цензорами, казначеем и архивариусом; с регулярными собраниями: тремя каждые десять дней; со сменяемостью: для президента раз в месяц; как они определили свою главную задачу: “Общество будет заниматься всем тем, что затрагивает свободу, равенство, единство и неделимость республика; его члены будут взаимно просвещать друг друга и особенно уделять внимание принятым законам и декретам”; как они намеревались поддерживать порядок в своих дискуссиях: если спикер отклоняется от темы или начинает утомлять, аудитория
реагирует вставанием. В другой секции мы можем услышать речь посвящённую “развитию республиканских принципов призванных оживить народные общества” и произнесённую одним из граждан и размноженную по распоряжению её членов. Были общества, записывавшие в своём регламенте строгий запрет “когда-либо использовать Генеральное собрание в своих интересах или пытаться оказать на него влияние”, в результате чего их основная, если не единственная задача сводилась к обсуждению вопросов относящихся к публичным делам, простому обмену мнений по вопросам текущей политики безо всякой обязательности принятия заявлений, петиций, обращений и тому подобного. Представляется неслучайным, что именно от одного из таких обществ, отказавшегося от прямого давления на Собрание, можно услышать наиболее яркую и трогательную похвалу институту как таковому? “Граждане, слово “народное общество” стало возвышенным словом… Если право соорганизовываться в общества будет отменено или хотя бы изменено, свобода останется пустым звуком, равенство станет химерой, и республика лишится своего самого надёжного оплота… Бессмертная Конституция, которую мы только что приняли … дарует всем французам право объединяться в народные общества” (44).Не группы давления санкюлотов, но эти многообещающие органы республики имел в виду находившийся в оппозиции к правительству Сен-Жюст, пиша примерно в то же время, когда Робеспьер отстаивал права народных обществ перед Собранием: “Парижские секции являют демократию, которая изменила бы всё, если бы вместо того чтобы становиться жертвами фракций, они вели себя в соответствии со своим собственным духом. Секция Кордельеров, бывшая самой незначительной, была также наиболее преследуемой” (45). Однако, придя к власти, Сен-Жюст, как и Робеспьер, изменил свою позицию и обратился против народных обществ и секций. В соответствии с политикой якобинского правительства, успешно превратившей секции в органы правительства и инструменты террора, он просил в письме адресованном народному обществу Страсбурга высказать ему “их мнение о патриотизме и республиканских добродетелях каждого из членов администрации” их провинции. Оставшись без ответа, он прибегнул к аресту всего аппарата администрации, после чего получил резкое письмо с протестом от ещё живого народного общества. В своём ответе он отделался стереотипным объяснением, будто столкнулся с “заговором”; очевидно, он более не желал иметь дел с народными обществами, если только они не шпионили для правительства (46). Незамедлительным последствием такого резкого поворота в его взглядах
было то, что отныне он уже настаивал: “Свобода народа – в его частной жизни; не нарушайте её. Сила правительства не должна употребляться иначе как для защиты этого состояния простоты от другой подобной силы”(47). Эти слова, фактически дословно повторяющие аргументы просвещенного деспотизма, звучат смертным приговором всем органам народа, и с редкой определённостью означают конец республики и всем упованиям революции.Несомненно, Парижская Коммуна, её секции, и народные общества, распространившиеся за время революции по всей Франции, представляли мощные группы давления бедных, закалёнными до прочности алмаза крайней нуждой и необходимостью, алмаза, перед которым, по словам Лорда Эктона, “ничто не могло устоять”; но они также заключали в себе зародыши, первые
слабые ростки нового типа политической организации, ранее неизвестной формы правления, позволявшей народу стать “участником в управлении” Джефферсона. Благодаря наличию этих двух аспектов, и даже несмотря на то, что первый намного перевешивает второй, конфликт между коммунальным движением и революционным правительством допускает двойственную интерпретацию. Он представляет собой, с одной стороны, конфликт между улицей и правительством, между теми, кто “действовал не для возвышения кого бы то ни было, но за принижение всех” (48) и теми, кого волны революции вознесли столь высоко в их надеждах и устремлениях, что они могли воскликнуть вместе с Сен-Жюстом: “мир был пуст после римлян, воспоминание о них сегодня – наше единственное пророчество свободы”, или утверждать вместе с Робеспьером: “Смерть – это начало бессмертия”. С другой стороны, это конфликт между народом и централизованным государственным аппаратом, который под видом представительства суверенитета нации, на деле лишил народ его власти, и который вполне закономерно должен был преследовать все эти спонтанно возникшие в ходе революции и не успевшие окрепнуть органы власти.В данном контексте, именно этот последний аспект конфликта будет главным предметом нашего интереса, в свете чего немаловажно отметить, что общества, в отличие от клубов и в особенности, от якобинского клуба, были в принципе непартийными, и что они “открыто преследовали цель установления нового федерализма” (49). Робеспьер и якобинское правительство, в корне не приемля саму идею разделения властей, должны были выхолостить эти общества заодно с секциями Парижской Коммуны; в условиях централизованной власти, общества, каждое из которых представляло свою собственную структуру власти, равно как и самоуправление Коммун, несли явную угрозу для централизованной власти государства.
В общих чертах, борьба между якобинским правительством и революционными обществами шла по трём различным вопросам. Первым была борьба республики за своё выживание против давления санкюлотизма, иными словами, борьба за публичную свободу против превосходящих сил массовой нищеты. Вторым вопросом была борьба якобинской фракции за абсолютную власть против публичного духа обществ; в теоретическом плане, это была борьба за унифицированное публичное мнение, “общую волю”, против публичного духа, присущего свободе мысли и слова многообразия; в практическом плане, это была силовая борьба партии и партийного интереса против
la chose publique, общего блага. Третьим вопросом была борьба правительственной монополии на власть против федерального принципа с его разделением власти, иначе говоря, борьба национального государства против первых ростков подлинной республики. Столкновение по всем этим вопросам обнаружило глубокое расхождение между людьми совершившими революцию и приобретшими благодаря ей положение и репутацию, и собственными представлениями народа о том, что должна и что может революция.Безусловно, главнейшей среди революционных идей народа было счастье, то
bonheur, о котором Сен-Жюст справедливо заметил, что оно явилось новым словом в Европе; и следует признать, что, в этом отношении, народ очень скоро отринул старые, предреволюционные идеи и представления своих лидеров, идеи, которые он не понимал и не разделял. Ранее мы видели, как “из всех идей и чувств, подготовивших Революцию, идея политической свободы в собственном смысле и любовь к ней явились последними и первыми исчезли” (Токвиль), потому что они не могли противостоять натиску несчастья, порождённого нищетой и, переводя на язык психологии, постепенно были вытеснены доминантным чувством сострадания человеческой нищете. Тем не менее, в то время как революция преподала её активным участникам урок на тему счастья, она также очевидным образом преподала народу урок по части “понятия и вкуса публичной свободы”. Секции и общества стимулировали неутомимую жажду дебатов, обучения, взаимного просвещения и обмена мнениями, даже если всему этому не суждено было возыметь немедленного влияния на тех, кто стоял у власти; и когда указом сверху народу в секциях было предписано только внимать партийным речам и повиноваться, они попросту перестали собираться. И, напоследок и довольно неожиданно, федеративный принцип – практически неизвестный в Европе, а если и известный, то почти единодушно отвергнутый – возник из небытия только в спонтанных организационных усилиях самого народа, открывшего его даже не зная его настоящего имени. И пусть даже парижские секции первоначально образовывались сверху для целей выборов в Собрание, это не может умалить того факта, что впоследствии эти собрания избирателей по своему собственному почину трансформировались в муниципальные органы, образовавшие из своего собственного состава большой муниципальный совет Парижской Коммуны. И не собрания избирателей, но именно эта коммунальная система советов распространилась в форме революционных народных обществ по всей Франции.Ограничимся лишь несколькими словами в качестве эпитафии этим первым органам республики, так никогда и не ставшей реальностью. Они были раздавлены, но не контрреволюцией, а самим центральным революционным правительством, не потому, что представляли для него сколь-нибудь реальную угрозу, но потому что на деле, в силу своего самого своего существования, оказались соперниками в борьбе за публичную власть. Никто во Франции, по-видимому, не забыл слова
Мирабо о том, что “десяток людей действующих заодно способны повергнуть в трепет и рассеять сотню тысяч”. Методы применявшиеся для их ликвидации были столь просты и непритязательны, что навряд ли в тех многочисленных революциях, что последовали соблазнительному примеру Французской, было открыто что-то принципиально новое. Весьма любопытно, что из всех пунктов расхождений между обществами и правительствами, решающим в конечном счёте оказывался непартийный характер первых. Партии или их прообразы, фракции, игравшие столь злополучную роль во Французской революции и затем составившие основу всей континентальной партийной системы, вели своё происхождение от Парламента; что же до развившихся в их среде амбиций и фанатизма, то народ в целом не понимал и не разделял их в ещё большей степени, нежели предреволюционные идеи людей революции, Однако, поскольку не существовало ни одной области где был бы возможен консенсус между парламентскими фракциями (в отличие от положения дел в Америке), делом жизни и смерти для каждой из них стало господство над всеми другими, и единственным способом его добиться было организовать массы вне стен парламента и терроризировать Собрание путём давления извне. Единственный способ установления господства в Собрании состоял в проникновении и в конце концов установлении контроля над народными обществами путём приобретения агентами партии большинства в них. За этим следовало объявление, что только одна парламентская фракция, в данном случае якобинцы, являются подлинно революционной и что только примкнувшие к ней общества заслуживают доверия, в то время как все остальные народные общества объявлялись “незаконными”. На этом примере мы можем наблюдать как в самый момент зарождения партийной системы однопартийная диктатура развилась из многопартийной системы. Ибо царство террора Робеспьера было на деле не чем иным, как попыткой организовать весь французский народ в один гигантский партийный механизм – “великое народное Общество – это французский народ” – посредством которого якобинский клуб раскинул сеть партийных ячеек по всей Франции. Ясно, что их задачей уже были бы не дискуссии и обмен мнениями, взаимное просвещение и информирование по вопросам публичного характера, но слежка друг за другом и разоблачение равно как членов, так и беспартийных (50).Всё это с большой наглядностью проявилось в ходе Русской революции, где большевистская партия выхолостила и извратила революционную советскую систему точно теми же методами. Тем не менее, эта наглядность не должна заслонять от нас того факта, что уже во Французской революции мы имеем дело с конфликтом между современными партийной системой и самой революцией порожденной новой государственной формой. Эти две системы, столь резко несхожие и даже противоположные друг другу, зародились в один и тот же
исторический момент, и ошеломляющий успех партийной системы и не менее ошеломляющее поражение системы советов, вызван выходом на историческую авансцену национального государства, вознесшего одну и сокрушившую другую. При этом левые и революционные партии зарекомендовали себя не менее враждебными по отношению к советской системе, нежели консервативные или реакционные правые. Мы столь привыкли отождествлять внутреннюю политику с партийной, не видя во внутренних конфликтов ничего другого, кроме борьбы правых и левых, что склонны забывать – конфликт между двумя системами на самом деле всегда был конфликтом между Парламентом, источником и центром власти партийной системы, и народом, уступившим власть своим представителям; ибо сколь бы успешно не сорганизовалась партия, решившая захватить власть и установить однопартийную диктатуру с помощью уличных масс чтобы затем ликвидировать парламентскую систему, она никогда не может отрицать, что её собственные корни лежат во фракционной борьбе в парламенте, благодаря чему она остаётся организацией подходящей к народу извне и сверху.Когда Робеспьер обратил тираническую власть якобинской фракции против ненасильственной власти народных обществ, он заодно вновь подтвердил власть Французского Собрания со всеми его внутренними раздорами и фракционной борьбой. Местом нахождения власти, догадывался он о том или нет, снова был Парламент, а не, вопреки всей революционной фразеологии, народ. Тем самым он отверг самое сильное политическое устремление народа как оно заявило о себе в народных обществах, устремление к равенству, праву подписывать все обращения и петиции адресуемые делегатам или Собранию в целом гордыми словами: “Равный Вам”. И в то время как якобинский террор мог постоянно взывать к “братству”, он в зародыше задушил
это революционное равенство – результатом чего было, что когда настал их черёд терпеть поражение в беспрестанной фракционной борьбе в Национальном Собрании, народ остался безучастным и парижские секции не поспешили им на выручку. Братство, как оказалось, не в состоянии заменить равенство.
III
“Как Катон каждую свою речь заключал словами: “
Cartago delenda est”, так и я каждое своё выступление повелением “разбить округа на районы” (51). Так лаконично Джефферсон однажды выразил свою излюбленную политическую идею, которая, увы, в той же мере не нашла понимания у потомков, как и у современников. Ссылка на Катона – не простое украшение речи путём цитирования латинского автора; она призвана была подчеркнуть, что для Джефферсона отсутствие такого разделения страны представляло реальную угрозу для самого существования республики. Подобно тому как Рим не мог быть, согласно Катону, в безопасности покуда существовал Карфаген, так и республика, согласно Джефферсону, не была прочна в самих своих основаниях без системы районов. “Доведись мне хоть раз увидеть пожелание осуществлённым, я рассматривал бы это как зарю спасения республики, и мог бы сказать вместе со святым Симеоном “Nunc dimittis Domine” (52). [Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - А кроме того я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен (лат.). Слова Марка Поркия Катона (234-149 до н. э.), римского консервативного политич. деятеля. Nunc dimittis servum tuum, Domine - Ныне отпущающи раба твоего, Господи (лат.) (Лук. 2, 29) Согласно евангельской легенде, старец Симеон, обречённый жить пока не увидит Господа, произнёс эти слова, увидев принесённого в храм младенца Иисуса. Примеч. моё – И. К.]Окажись Джефферсонов план “элементарных республик” воплощён в жизнь, мы имели бы нечто гораздо большее, чем слабые ростки будущей государственной формы, различимые в секциях Парижской Коммуны и народных обществах периода Французской революции. Существенно, однако, что хотя политическое воображение Джефферсона и превзошло их в глубине и масштабе, его мысли, тем не менее, двигались в сходном направлении. И план Джефферсона, и французские
sociétés révolutionnaires (революционные общества – фр.) с почти сверхъестественной точностью предвосхитили те советы или Räte (советы – нем.), которым назначено было являться на авансцене истории почти в каждой подлинной революции на протяжении 19-го и 20-го веков. Всякий раз когда они появлялись, они возникали как спонтанно сложившиеся органы народа, не только независимо ото всяких революционных партий, но и полностью неожиданно для их лидеров. Подобно предложениям Джефферсона, они полностью игнорировались историками, политическими теоретиками и, самое важное, самой революционной традицией. Даже те историки, чьи симпатии были явно на стороне революции, не поспешили в своих учёных трудах запечатлеть и донести до будущих поколений зарождение народных советов, рассматривая их как не более чем по сути своей временные органы революционной борьбы за освобождение. Они оказались не в состоянии понять, до какой степени в лице советов они столкнулись с совершенно новой системой правления, с новым публичным пространством для свободы, конституированным и организованным в ходе самой революции.Это утверждение нуждается в оговорках. Существует два исключения из него, конкретно, несколько замечаний Маркса по случаю возрождения Парижской Коммуны в период непродолжительной революции 1871-го года и несколько соображений Ленина, опирающихся не на марксовы разработки, но на действительный опыт революции 1905-го года в России. Однако прежде чем мы перейдём к этим исключениям, нам не мешало бы лучше осознать, что имел ввиду Джефферсон, когда с величайшей уверенностью заявлял: “Ум человека не способен изобрести более надёжной основы для свободной, долговечной и хорошо управляемой республики” (53), нежели эти
республики районов.Возможно, достоин примечания факт, что мы не встретим упоминания о системе районов ни в одной из основных работ Джефферсона, но ещё более примечательно, что те несколько писем, в которых он излагает её с такой упорной настойчивостью, датированы все последним периодом его жизни. Действительно, в какой-то момент он надеялся, что Виргиния, будучи “первой из наций земли, которая мирно собрала своих мудрых людей вместе чтобы составить фундаментальную конституцию”, будет также первой которая
“примет подразделение наших округов на районы” (54); однако главное здесь в том, что идея в целом по-видимому возникла у него только в то время, когда он сам устранился от публичной жизни и отошёл от государственных дел. Он, кто был так откровенен в своей критике Конституции за то, что она не инкорпорировала Билль о Правах, никогда не касался её неспособности инкорпорировать townships, городские и сельские общины, явно служившие моделью его “элементарных республик”, в которых “голос всего народа был бы честно, полно и мирно обсуждён” и положен в основу решения “общим разумом” всех граждан (55). С точки зрения его собственной роли в делах своей страны и судьбы Американской революции, идея ward system, системы районов, была запоздалой; в свете его биографического развития, настойчивое подчёркивание “миролюбивого” характера этих небольших республик районов демонстрирует, что система эта была для него единственно возможной ненасильственной альтернативой его ранней идее желательности повторяющихся революций. Во всяком случае, единственное подробное описание того, что он имел в виду, мы находим в письмах датированных 1816-м годом, и эти письма скорее повторяют, нежели дополняют, друг друга.Сам Джефферсон вполне осознавал, что предлагаемое им в качестве “спасения республики” на самом деле было спасением революционного духа в республике. Его изложение
ward system всегда начиналось с напоминания, в какой степени “энергия приданная нашей революции с её начале” была обязана “малым республикам”; как они “подвигли целую нацию на энергичное действие”; и как в конце концов он ощутил “под своими ногами сотрясение оснований государства действиями townships Новой Англии”, “энергия … организации” которых была настолько велика, что “не было ни одного человека ни в одном штате, кто не был бы подвигнут со всей своей энергией на действие”. Из чего он делал вывод, согласно которому районные республики позволят гражданам делать то, что они могли делать на протяжении всех лет революции, а именно, действовать самостоятельно и участвовать в публичных делах и решении политических проблем, какие приносит каждый новый день. На основании Конституции публичные дела нации были препоручены Вашингтону и велись федеральным правительством, которое ещё Джефферсон считал “внеполитическим ведомством”, ответственным за международные дела республики, внутренние дела которой находились в ведении правительств штатов (56). Однако правительства штатов и даже административные машины округов были слишком громоздки и неповоротливы, чтобы сделать возможным непосредственное участие; во всех этих институтах делегаты народа, а не сам народ образовывали политическое пространство, тогда как те, кто делегировал их и кто теоретически был единственным законным носителем власти, навсегда остались за его дверьми. Этот порядок вещей был вполне нормален, если бы Джефферсон действительно был убеждён (как он иногда открыто заявлял), будто счастье народа заключается исключительно в его частном благополучии; в силу же искусности с какой был создан союз – с его разделением властей, системой контролей, “сдержками и противовесами” – было крайне невероятно, хотя, конечно, и не невозможно, чтобы из него когда-либо развилась тирания. Что могло случиться, и с тех пор действительно не раз случалось – это “коррупция и испорченность представительных органов” (57), однако эта коррупция вряд ли была вызвана (и едва ли вообще когда-либо вызывалась) заговором представительных органов против представляемого ими народа. Испорченность этого типа правления скорее всего исходила со стороны общества, т. е. со стороны самого народа. Ни в одной другой форме правления коррупция испорченность не несёт в себе больших опасностей и в то же самое время не является наиболее вероятной, как в эгалитарной республике. В общих чертах, коррупция возникает когда частные интересы вторгаются в публичную сферу, другими словами, она исходит снизу, а не сверху. Именно по той причине, что республика в принципе исключает старую дихотомию управляющего и управляемого, коррупция не оставляет в стороне народ, как в остальных формах правления, где в неё втягиваются только правители и правящие классы, и где действительно “невинный” народ претерпевший от своих властей может совершить страшное, но необходимое восстание. Испорченность самого народа, в отличие от испорченности его представителей или правящего класса, возможна только при системе правления, открывшей ему доступ к публичной власти и научившей его как с нею обращаться. Там, где ликвидирован разрыв между управляющими и управляемыми, всегда существует возможность, что разделительная линия между публичным и частным будет изглаживаться и в конце концов может стереться вовсе. До Нового времени и выделения особой сферы общества, опасность эта, свойственная республиканской форме правления, обычно исходила от публичной сферы, из тенденции публичной власти к расширению и вторжению во владения частных интересов. Испытанным средством против этой опасности было уважение к частной собственности, т. е. выработка системы законов, посредством которых публично гарантировались права частной жизни и обеспечивалась правовая защита путём разграничения публичного и частного. Билль о Правах в Американской Конституции образует последний и самый мощный правовой заслон частной сферы перед публичной властью; и достаточно хорошо известная озабоченность Джефферсона относительно опасностей исходящих от публичной власти. Однако в условиях не относительно стабильного процветания как такового, но быстрого и неуклонного экономического роста, иначе говоря, непрестанно усиливающейся экспансии частной сферы (и таковыми вне сомнения были и в значительной степени остаются условия современной эпохи) опасности коррупции и злоупотреблений гораздо более вероятно исходят со стороны частных интересов, а не публичной власти. И то, что Джефферсон оказался способен распознать эту опасность несмотря на то, что был преимущественно занят более древними и лучше изученными проблемами испорченности правительств, свидетельствует о высоком уровне его государственного ума.Единственным средством предотвратить проникновение коррумпированных частных интересов в публичную сферу является сама эта публичность, тот свет, на который выставляется каждый совершённый в её пределах поступок, сама видимость всего совершаемого в ней. (Ибо тогда как страх наказания касается равным образом всех граждан, подлинный страх позора играет роль только для тех, кто открыт свету публичности). Джефферсон, хотя тайное голосование, служившее главным образом защите частных лиц от государственной власти, было в то время ещё неизвестно, по меньшей мере предчувствовал, какими опасностями может обернуться предоставления народу части в публичной власти без обеспечения его в то же время публичным пространством большим, нежели урна для бюллетеней, и возможностью подать свой голос более частой, чем только в день выборов. Как смертельную опасность для республики он воспринял, что Конституция дала всю власть народу, не обеспечив ему в то же время возможность быть республиканцем и действовать как гражданину. Иными словами, опасность состояла в том, что вся власть была отдана народу как частному лицу, и что не было предусмотрено пространства, где он мог бы быть гражданином. Когда, под занавес своей жизни, он подытожил то, что составляло для него суть частной и публичной морали: “Возлюби своего ближнего как самого себя
и свою страну больше чем самого себя” (58), он сознавал, что эта максима останется пустой фразой, и “страна” не сможет удостоится “любви” своих граждан, если не будет подобно “ближнему” непосредственно ощутима. Ибо как трудно любить ближнего, когда видишь его мельком раз в два года, так и трудно любить страну больше чем самого себя, если она не пребывает постоянно в гуще своих граждан.Тем самым, к самой сути республиканского правления принадлежит необходимость “разделить округа на районы”, конкретно, создания “небольших республик”, через которые “каждый человек в своём штате” мог бы стать “активным членом в общем правительстве, лично осуществляя значительную часть своих прав и обязанностей, хотя по природе своей и производных, но всё же важных и находящихся целиком в его компетенции” (59). Именно эти “маленькие республики были бы главной силой большой” (60); ибо если республиканское правление Союза действительно исходит из базовой посылки, что власть принадлежит народу, к самому условию его надлежащего функционирования относится “разделение управления между многими, причём каждому отводятся именно те функции, для которых он наиболее компетентен”. Без этого едва ли можно было говорить о воплощении принципа республиканского правления, и Соединённые Штаты были бы республикой только по названию.
С точки зрения сохранения республики, вопрос заключался в том, как предотвратить “вырождение нашего правления”, и Джефферсон называл выродившимся любое правление, власть в котором была сконцентрирована “в руках одного, нескольких, родовитых или многих”. Тем самым система районов подразумевала не укрепление демократической власти большинства, но власти каждого в пределах его компетенции; и только разбив “многих” на ассамблеи, где каждый мог быть учтён и знал бы в лицо всех других, “мы будем в такой мере республиканцами, в какой это возможно для большого общества”. С позиции безопасности граждан, вопрос состоял в том, как сделать чтобы каждый почувствовал “что он является участником в управлении и ведении публичных дел не только в день выборов раз в году, но каждый день; когда в штате не останется более человека, который не был бы членом какого-либо из его советов [именно советы,
councils, а не привычные wards, районы, употребляет здесь Джефферсон], будь он мал или велик, он предпочтёт скорее чтобы у него вырвали сердце, чем позволит какому-нибудь Цезарю или Бонапарту лишить себя власти”. Наконец, в вопросе о том, как интегрировать эти мельчайшие политические органы, предназначенные для каждого, в государственную структуру Союза, предназначенную для всех, ответ его был: “Элементарные республики районов, республики округов, республики штатов, и республика Союза образуют градацию властей, каждая из которых стоит на почве закона, обладает делегированной ей долей власти, и конституирует подлинную систему фундаментальных противовесов и сдержек по отношению к правительству”. По одному пункту, тем не менее, Джефферсон не обмолвился ни словом, а именно, в чём должны заключаться специфические функции элементарных республик. Мимоходом он отмечает в качестве “одного из достоинств предложенного мною разделения на районы”, что они представляли бы лучший способ учёта голосов народа, нежели механизм представительного правления; вместе с тем в целом он был убеждён, что стоит “начать их с одной единственной целью”, как они “вскоре проявят себя в качестве наилучших инструментов для всех других” (61).Эта расплывчатость цели, которая тем не менее вовсе не вызвана недостатком ясности, пожалуй, красноречивее всех остальных отдельно взятых аспектов предложения Джефферсона, свидетельствует, что эта запоздалая мысль, в которой нашли выход его самые незабываемые воспоминания о революции, в действительности гораздо более затрагивает новую форму правления, нежели простую реформу или дополнение существующих институтов. Если бы конечной целью революции была свобода и конституирование публичного пространства, где та могла бы являться,
constitutio libertatis, то в таком случае элементарные республики или советы, единственное реальное место, где каждый мог быть свободен в позитивном смысле этого слова, выступали бы в действительности целью большой республики, главной задачей которой во внутренних делах было бы обеспечение народа такими местами свободы и их защита. Тем самым основная посылка, на которой основывается эта или любая другая система советов, подозревал о том Джефферсон или нет, состояла в том, что никто не может быть назван “счастливым”, если он не принимает участия в публичных делах, что никто не может быть назван свободным, если он не имеет собственного опыта публичной свободы, и что никто не может быть назван ни счастливым, ни свободным, если он не принимает участия в публичной власти.
IV

Нас осталось только поведать странную и грустную историю, историю, которая не должна быть забыта. Это не история революций, на которую как на стержень историки хотели бы нанизать события 19-го века в Европе (62), истоки которых могут быть прослежены вплоть до Средних веков, и ход которых был, по словам Токвиля, “неудержим”, несмотря на “все препятствия” “в течение стольких веков”, и которые Маркс, обобщая опыт нескольких поколений, назвал “локомотивами истории” (63). Я не оспариваю, что революция была скрытым
leitmotif предыдущего века, хотя и питаю сомнения насчёт обобщений одного и второго, Токвиля и Маркса, в особенности их убеждения, будто бы революция была результатом неумолимой силы, а не продуктом конкретных действий и событий. Что, однако, представляется для меня несомненным, так это что ни один историк не сможет поведать историю нашего века, не нанизывая её “на стержень революций”; вместе с тем история эта, поскольку окончание её сокрыто в неопределённости будущего, ещё не готова к тому, чтобы быть рассказанной.То же, до некоторой степени, справедливо по отношению к частному аспекту революции, на рассмотрении которого нам здесь следует остановиться особо. Этим аспектом является регулярное возникновение в ходе революции новой формы правления до удивления напоминающей, с одной стороны, систему районов Джефферсона, революционные общества и муниципальные советы распространившиеся по всей Франции после 1789-го, с другой. Среди причин, почему наше внимание остановилось именно на этом аспекте, в первую очередь следует упомянуть, что здесь мы имеем дело с феноменом более всего поразившем двух величайших революционеров эпохи, Маркса и Ленина, когда они оказались свидетелями их спонтанного возникновения, один во время Парижской Коммуны 1781-го и второй в 1905-м, во время первой Русской революции. Поразило их не только то, что сами они оказались полностью неготовы к этим событиям, но также то, что они столкнулись с повторением необъяснимым никакой сознательной имитацией или даже простым воспоминанием прошлого. Конечно, они едва ли слышали что-либо о
ward system Джефферсона, однако они были достаточно осведомлены о той революционной роли, какую секции первой Парижской Коммуны сыграли во Французской революции, хотя они никогда не думали о них как о возможных прообразах новой формы правления, рассматривая их лишь в качестве, от которых следовало избавиться, как только революция завершится. Сейчас, однако, они столкнулись с органами самого народа, которые со всей определённостью намеревались пережить революцию. Это противоречило всем их теориям и, что даже более важно, находилось в вопиющем несоответствии с теоретическими предпосылками относительно природы власти и насилия, которые они, хотя бы и бессознательно, разделяли с правителями обречённых или павших режимов. Продолжая мыслить традиционными категориями национального государства, они воспринимали революцию как способ захвата власти, а саму власть отождествляли с монополией на средства насилия. В действительности, однако, произошло, что старый режим стремительно дезынтегрировался, внезапно утратив свой авторитет, а вместе с ним и контроль над средствами насилия, армией и полицией; одновременно с этим произошло достойное удивления формирование новой властной структуры, обязанной своим существованием ничему иному, как организационным усилиям самого народа. Другими словами, когда приспел момент революции, оказалось, что не осталось власти, которую надо было захватить, так что революционеры оказались перед довольно неприятной дилеммой: либо провести свою собственную сложившуюся до революции “власть”, т. е. организацию партийного аппарата, на освободившееся с падением правительства места у кормила власти, либо же попросту присоединиться к новым революционным центрам власти, сложившимся без их содействия.На короткое время, оказавшись простым наблюдателем того, чего он никогда не ожидал, Маркс осознал, что
Kommunalferfassung (коммунальное устройство – нем.) Парижской Коммуны, которой предназначалось стать “политической формой даже самой маленькой деревни”, вполне может явиться “наконец открытой политической формой для экономического освобождения труда”. Однако весьма скоро ему стало ясно, до какой степени эта политическая форма противоречила всем его представлениям о “диктатуре пролетариата”, осуществляемой социалистической или коммунистической партией, монополия на власть и на средства насилия которой была скопирована с крайне централизованных систем национальных государств, в итоге чего он заключил, что коммунальные советы были всего лишь временными органами революции (64).Почти такое же изменение позиции мы находим поколение спустя у Ленина, который дважды в своей жизни, в 1905-м и 1917-м подпадал под прямое влияние самих событий, иначе говоря, временно освобождался от пагубного влияния революционной идеологии. Так, он с неподдельной искренностью мог в 1905-м превозносить “революционное творчество народа”, который в
разгар революции начал устанавливать совершенно новую властную структуру (65), подобно тому как двенадцатью годами позднее он мог начать и выиграть Октябрьскую революцию с лозунгом “Вся власть советам”. Однако за годы отделяющие эти две революции он не предпринял ничего чтобы переориентировать свою мысль и включить эти новые органы в какую-либо из многочисленных партийных программ, в результате чего то же спонтанное развитие событий в 1917-м застало его и его партию не менее неподготовленными, чем в 1905-м. Когда, наконец, во время Кронштадского восстания советы выступили против партийной диктатуры и открылась несовместимость новых советов с партийной системой, он почти незамедлительно решил подавить советы поскольку те угрожали монополии большевистской партии на власть. С тех пор название “Советский Союз” применительно к послереволюционной к послереволюционной России стало ложью, однако ложь эта также содержала сдержанное признание чрезвычайной популярности, правда, не большевистской партии, но советской системы, выхолощенной этой партией (66). Поставленные перед выбором: либо приспособить свои мысли и поступки к новому и непредвиденному, либо прибегнуть к испытанным средствам подавления, они едва ли колебались в предпочтении последнего; за исключением нескольких эпизодов не имевших последствий, их поведение от начала и до конца было продиктовано соображениями партийной борьбы, которая не играла никакой роли в советах, но которая действительно имела первостепенное значение во всех дореволюционных парламентах. Когда в 1919-м коммунисты решили “поддержать только такую советскую республику, в которой советы имеют коммунистические большинство” (67), они на самом деле поступали как заурядные партийные политики. Столь велик был страх этих людей, даже самых радикальных и неординарных, вещей никогда ранее не виданных, мыслей никогда ранее не думанных, институтов никогда ранее не испробованных.Неспособность революционной традиции предложить сколь-нибудь серьёзное осмысление единственной новой формы управления, порождённой революцией, может быть объяснена Марксовой одержимостью социальным вопросом и его полным пренебрежением вопросами государства и формы правления. Однако этого объяснения недостаточно, и до некоторой степени оно является постановкой одного вопроса на место другого, поскольку берёт за самоочевидное всё возрастающее влияние Маркса на революционное движение и традицию, влияние, которое само по себе ещё нуждается в объяснении. В конце концов, среди революционеров не одни марксисты оказались полностью неподготовленными к подобному обороту революционных событий. И, что особенно характерно, вина за эту неподготовленность не может быть возложена на отсутствие теоретического или практического интереса к революции. Общеизвестно, что Французская революция
вывела на политическую сцену совершенно новую фигуру, профессионального революционера, жизнь которого проходила не в революционной агитации, для чего существовало не так уж много возможностей, но в штудиях, раздумьях, теоретических бдениях и дискуссиях, единственной темой которых была революция. На самом деле, никакая история европейских праздных классов не была бы полна без истории профессиональных революционеров 19-го и 20-го веков, которые вместе с современными художниками и писателями явились подлинными наследниками hommes de lettres 17-го и 18-го столетий. Художники и писатели присоединялись к революционерам потому, что “само слово “буржуа” было ненавистно, с эстетической точки зрения не менее чем с политической” (68). Вместе они составили “богему”, этот островок блаженного ничегонеделания в океане делового и поглощенного своими проблемами века Индустриальной революции. Даже среди членов этого нового праздного класса профессиональные революционеры пользовались особым почётом, поскольку их образ жизни вообще не требовал какого-то определённого рода занятий. Если и было что-либо, о чём стоило жалеть, то уж никак не о недостатке времени думать, в силу чего было не так важно, осуществлялся ли этот мыслительный процесс во всемирно известных библиотеках Лондона и Парижа, или в венских и цюрихских кафе, или же в относительно комфортабельных тюрьмах различных anciens régimes.Роль, играемая профессиональными революционерами во всех современных революциях, достаточно велика и значительна, однако она вовсе не состояла в подготовке революций. Они наблюдали и анализировали прогрессирующую дезинтеграцию государства и общества; вместе с тем они едва ли много сделали или даже в состоянии были сделать, чтобы приблизить или направить этот процесс. Даже волна стачек, распространившаяся по всей России и приведшая к первой революции, была совершенно спонтанной и возникла безо всякого содействия со стороны какой-либо политической или профсоюзной организации, которые, напротив, сами появились только в ходе революции (69)
. Начало революций заставало врасплох революционные группы и партии не менее всех других, и едва ли найдётся хотя бы одна революция, которую можно было бы отнести на их счёт. Обычно всё бывало наоборот: разражалась революция и освобождала профессиональных революционеров оттуда, где им случилось в тот момент быть – из тюрем, кафе или библиотек. Даже ленинская партия профессиональных революционеров не была в состоянии “совершить” революцию; лучшее, на что они были способны, это оказаться поблизости или, улучив момент, поспешить домой. Наблюдение Токвиля, сделанное им в 1848-м, что июльская монархия во Франции “пала без борьбы только при виде, а не под ударами своих врагов, которые были столь же удивлены своей победой, сколько побеждённые были удивлены своим поражением”, снова и снова получало подтверждение.Роль профессиональных революционеров состоит не в совершении революции, но в приходе к власти после того, как та уже произошла, и их огромное преимущество в этой борьбе за валяющуюся на улице власть состоит не столько в их теориях и идеологиях, не в тактической или организационной подготовке, сколько в том простом факте, что их имена – единственно публично известные (70). Определённо, не заговор является причиной революции, и тайные общества – хотя они и могут иметь успех в проведении нескольких эффектных террористических актов, обыкновенно с помощью тайной полиции (71) – как правило слишком тайны чтобы их голоса были у всех на слуху. Утрата авторитета власть имущими, которая предшествует всякой революции, на деле не представляет секрета ни для кого, поскольку признаки её лежат на поверхности, хотя и не обязательно бросаются в глаза; однако симптомы её: общая неудовлетворённость, презрение к власть предержащим и т. п. никогда не бывают однозначными, а
потому их невозможно выявить никаким опросом общественного мнения (72). Однако презрение к властям, которое едва ли занимает какое-то место среди мотивов типичных профессиональных революционеров, определённо представляют один из наиболее мощных стимулов революции; едва ли была революция, к которой так или иначе не были применимы слова Ламантина о революции 1848-го, назвавшего её “революцией презрения”.Насколько несущественным было значение профессиональных революционеров для начала революции, настолько велико было их влияние на её ход. И поскольку годы своего ученичества они провели в школе революций прошлого, это своё влияние они неизбежно будут употреблять не в пользу нового и неожиданного, но на благо действия остающегося в согласии с прошлым. В той мере, в какой новое противоречит всему усвоенному ими и тому, что по их мнению способствует сохранению непрерывности революционной традиции, они будут стараться прибегать к языку исторических прецедентов; и эта ранее упомянутая сознательная и пагубная имитация прошлых событий – подразумевается, хотя бы отчасти, самой природой их профессии. Задолго до того, как профессиональные революционеры нашли в марксизме своё официальное непогрешимое руководство по интерпретацию и комментированию всей истории, прошлой, настоящей и будущей, Токвиль в 1848-м уже мог отметить: “Имитация т. е. 1879-го года революционным Собранием была столь явной, что она скрывала страшную оригинальность совершающегося; меня ни на минуту не оставляло впечатление, что они скорее воспроизводили ход Французской революции, нежели продолжали её” (73). Так и в период Парижской Коммуны 1817-го, на которую ни Маркс, ни марсксисты не имели ни малейшего влияния, по меньшей мере один из новых журналов
Le Père Duchêne вновь вернулся к старому революционному календарю. Действительно, странно, что в этой атмосфере, где каждый эпизод прошлых революций был многократно обсосан, словно это была часть священной истории, единственный совершенно новый и полностью спонтанно возникший институт революционной истории, должен был остаться абсолютно незамеченным.Пользуясь преимуществами пророка “предсказывающего назад”, трудно преодолеть искушение несколько развернуть это утверждение. В писаниях утопических социалистов, особенно Прудона и Бакунина, можно встретить пассажи, которые сравнительно легко принять за описание системы советов. Истина, однако, в том, что эти по своей сути политические мыслители анархистского толка оказались на редкость неподготовленными к восприятию феномена столь явно демонстрирующего, что революция не враждебна государству, правительству и порядку, но, напротив, преследует цель основания нового государства и установления нового порядка. Уже в сравнительно недавние времена историки указывали на достаточно очевидные параллели между советами
и средневековыми городскими коммунами, швейцарскими кантонами, “агитаторами” (или скорее “adjustators”, как они первоначально назывались) времён Английской революции, и Генеральным советом армии Кромвеля, однако всё дело в том, что ни один из них, за возможным исключением средневековых коммун (74), никогда не имел ни малейшего влияния на умы народа, который в ходе революции по собственному почину организовался в советы.Таким образом, никакой традицией, революционной или предреволюционной, невозможно объяснить регулярное появление после Французской революции системы советов. Если оставить в стороне Февральскую революцию 1848-го в Париже, где
commission pour les travailleurs (комиссия по делам рабочих– фр.), учреждённая самим правительством, занималась почти исключительно вопросами социального законодательства, основные даты появления этих органов действия и ростков нового государства следующие: год 1870, когда столица Франции, осаждённая прусской армии, “спонтанно реорганизовалась в миниатюрную федеративную республику”, составившую впоследствии ядро правительства Парижской Коммуны весной 1871-го (75); год 1905-й, когда волна спонтанный стачек в России в один день привела к возникновению своего собственного политического руководства, независимо от всяких революционных партий и групп, и рабочие на фабриках организовывались в советы с целью представительного самоуправления; Февральская революция 1917-го в России, когда при всём различии политических ориентаций русских рабочих, самая форма организации, советы, “стояла как бы вне споров” (76); годы 1918 и 1919 в Германии, когда после поражения армии в войне солдаты и рабочие путём открытого восстания сорганизовались в Arbeiter und Soldatenräte (советы рабочих и солдат – нем.), выдвинув в Берлине требование, чтобы эта Rätasystem (советская система – нем.) была положена в основу германской конститции, и установив совместно с богемой из мюнхенских кафе весной 1919-го недолго просуществовавшую Баварскую Räterepublik (советскую республику – нем.); наконец, последняя дата – осень 1956-го, когда Венгерская революция с самых первых своих дней заново спонтанно воспроизвела систему советов в Будапеште, откуда та распространилась по всей стране с “невероятной быстротой” (78).Простое перечисление этих дат предполагает непрерывность, какой на самом деле никогда не было. Именно отсутствие непрерывности, традиции, целенаправленного влияния, делает закономерность появления этого феномена столь поразительной. Среди общих характеристик советов наипервейшее место принадлежит, без сомнения, спонтанности их возникновения, которая явным образом противоречит теоретической “модели революции 20-го века – планируемой, приготовляемой и осуществляемой с почти бесстрастной научной точностью профессиональными революционерами” (79). Можно наблюдать, что где революция не завершилась поражением и не была сменена той или иной разновидностью реставрации, там в конечном счёте возобладала однопартийная диктатура, однако установилась она только после борьбы, даже более кровавой чем против “контрреволюции”, с органами и институтами самой революции. Советы к тому же всегда были органами порядка в той же мере в какой и органами действия, и именно это их стремление установить новый порядок привело их к конфликту с группами профессиональных революционеров, стремившихся низвести их до уровня простых исполнительных органов. Вполне естественно, что члены советов не довольствовались отводимой им задачей “самопросвещения” и обсуждения решений принятых партиями или образованиями парламентского типа; они осознанно и без обиняков желали прямого участия каждого гражданина в публичных делах страны (80), и пока они существовали, не было сомнения, что “каждый человек находил сферу приложения своим силам и имел возможность своими собственными глазами видеть свой собственный вклад в события” (81). Свидетели их деятельности зачастую соглашались насчёт того, насколько революция способствовала этому “прямому возрождению демократии”, чем молчаливо признавалось, что все подобного рода возрождения, увы, обречены, поскольку
, как очевидно, прямое ведение публичных дел самим народом в современных условиях невозможно. Они взирали на советы как на романтическую мечту, своего рода фантастическую утопию, подобно миражу на краткий миг забрезжившую на горизонте, несбыточные романтические устремления народа, по всей видимости плохо представлявшего суровые реалии жизни. Эти “реалисты” заимствовали свою систему координат из партийной системы, принимая как само собой разумеющееся, что не существовало альтернативы представительному правлению, и намеренно забывая, что своим падением старый режим обязан именно этой системе.Ибо одна из наиболее примечательных черт советов состояла не только в том, что для них не только не существовало партийных границ, что члены различных партий сидели в них вместе, но и в том, что партийная принадлежность вообще не играла в них никакой роли. Они по сути являлись единственными политическими органами для людей, не принадлежащих ни к одной партии. В силу этого они неизбежно вступали в конфликт со всеми ассамблеями, собраниями, как старыми парламентами, так и с новыми “учредительными собраниями”, по той простой причине, что эти последние, даже в лице их наиболее радикальных крыльев, были детищами партийной системы. Ничто более не разделяло советы и партии, как партийные программы; ибо эти программы, сколь бы они не были революционны, были всего лишь “готовыми формулами”, которые требовали не действия, но механического “энергичного проведения на практике”, как о том с удивительной прозорливостью поведала Роза Люксембург (82). Сегодня мы знаем, с какой быстротой теоретические формулы испаряются при попытке претворить их на практике, однако, если даже формула пережила своё воплощение, и если даже она оказалась панацеей ото всех бед, социальных и политических, советы были обязаны восставать против любой подобной политики, поскольку сам разрыв между партийными экспертами, которые “знали” и массами народа, которому отводилась роль проводника этих знаний, не учитывал способность среднего гражданина к действию и формированию собственного мнения. Советы, другими словами, обязаны были стать излишними там, где преобладал дух революционной партии. Где знание и действие разделились, там не осталось более пространства для свободы.
Советы, вне всякого сомнения, были пространствами свободы. В качестве таковых они неизменно отказывались рассматривать себя временными органами революции, и, наоборот, предпринимали всё возможное чтобы установиться в качестве постоянных органов государственного управления. Вовсе не ставя своей целью сделать революцию перманентной, они открыто объявили своей задачей “заложить основания республики целиком одобряемой народом, единственной формы правления, которая навеки положит конец эре нашествий и гражданских войн”; не рай на земле, не бесклассовое общество, не мечта о социалистическом или коммунистическом братстве, но установление “истинной Республики” было тем “вознаграждением”, которое ожидалось как завершение борьбы (83). И что было верно в Париже 1871-го осталось таковым по отношению к России 19
05-го, когда “не только деструктивные, но и конструктивные” интенции советов были настолько явны, что, по свидетельству современников, можно было ощутить “нарождение и формирование силы, которая однажды сможет оказаться способной осуществить преобразование государства” (84).Не что иное, как именно эта надежда на преобразование государства, на новую форму правления, которая позволила бы каждому члену современного эгалитарного общества стать “участником” в ведении публичных дел, оказалась похороненной в катастрофах революций 20-го века. Причин тому множество, и они разнились от страны к стране, однако, те силы, которые принято называть реакцией или контрреволюцией, не занимали среди них главенствующего места. Вспоминая свидетельства революций нашего столетия, более всего поражаешься слабости сил реакции, частоте с какой они терпели поражения, легкости, с какой побеждала революция и, последнее по счёту, но не по важности, крайней нестабильности и отсутствия авторитета у большинства европейских правительств восстановленных после краха Гитлера. В любом случае, роль, играемая в этих катастрофах профессиональными революционерами и революционными партиями, достаточно велика и в данной связи она представляется решающей. Без ленинского лозунга “Вся власть советам” не было бы Октябрьской революции в России, однако, был или нет Ленин искренен когда провозглашал Республику Советов, фактом остаётся, что даже в тот момент лозунг этот находился в явном несоответствии с открыто провозглашаемыми целями большевистской партии
– “захвата власти”, т. е. замены государственной машины партийным аппаратом. Если бы Ленин на само деле захотел отдать власть советам, он обрёк бы большевистскую партию на такое же бессилие, на какое был обречён советский парламент, партийные и беспартийные депутаты которого назначались партией и в отсутствии мало-мальски альтернативного списка даже не избирались, но только одобрялись избирателями. И всё же корни конфликта уходят ещё глубже, не сводясь к состязанию между партией и советами за право быть единственными “истинными” представителями революции и народа.С самого начала советы представляли смертельную угрозу для партийной системы во всех её формах, и этот конфликт обнаруживался везде, где рождённые революцией советы обращались против партии или партий, единственной целью которых всегда была революция. С авангардной точки зрения подлинной Республики Советов, большевистская партия была не менее “реакционной” чем все остальные партии поверженного режима, но несравненно более опасной. В той мере в какой речь идёт о форме правления – а советы повсюду, в противоположность всем партиям, куда более занимались политическим, нежели социальным, аспектом революции (85) – однопартийная диктатура есть не только последняя стадия в развитии национального государства, но и логическое следствие многопартийной системы. Это может показаться трюизмом во второй половине 20-го века, когда многопартийные демократии дошли до такой степени упадка, что на каждых выборах во Франции или Италии решается ни больше, ни меньше, как вопрос о “самих основаниях государства и природе режима” (86). Тем более любопытно обнаружить, что в принципе подобный конфликт существовал уже в 1871-м году в период Парижской Коммуны, когда Одиссей Барро с редкой точностью сформулировал основное отличие между новой формой правления к которой стремилась Коммуна, и старым режимом, который скоро был восстановлен в отличном, немонархическом, обличье: “Как социальная революция 1871-го восходит непосредственно к 1793-му, который он продолжал и призван был
завершить… как политическая революция, напротив, 1871-й есть реакция против 1793-го и возврат к 1789-му.… Из программы исключены слова “единая и неделимая” и отвергнута идея авторитета, которая есть идея всецело монархическая … чтобы присоединиться к федеративной идее, которая есть по преимуществу идея либеральная и республиканская (67) (курсив мой – Х. А.)Эти слова удивительны тем, что были написаны в период, когда едва ли существовали какие-то свидетельства (во всяком случае, не для людей незнакомых с ходом Американской революции) о тесной связи между духом революции и принципом федерации. Чтобы доказать истинность слов Барро, нам следовало бы обратиться к Февральской революции 1917-го в России и Венгерской революции 1956-го, обе из которых длились достаточно долго чтобы в общих чертах продемонстрировать, как выглядело бы новое правление и как примерно функционировала бы республика основанная на системе советов. В обоих случаях советы распространились повсеместно, совершенно независимо друг от друга: советы рабочих, солдат и крестьян в случае России, самые разнообразные виды советов в случае Венгрии: советы жителей кварталов, районов, так называемые революционные советы возникшие в ходе уличных сражений, советы рабочих и художников, рождённые в кафе Будапешта, советы студентов и молодёжи в университетах, советы рабочих на фабриках, советы в армии, среди служащих, и т. п. Образование совета в каждой из этих непохожих друг на друга групп превращало более или менее случайное соседство в политический институт. Самый же поразительный момент этих спонтанных процессов – что в обоих случаях этим независимым и чрезвычайно разнородным органам, чтобы начать процесс координации и интеграции на ассамблею представляющую всю страну, понадобилось всего несколько недель в случае России или несколько дней в случае Венгрии (88). Мы можем видеть, как федеральный принцип, принцип союза, соглашения между различными союзами, подобно соглашениям, “ковенантам”, “косоциациям” и конфедерациям в колониальные времена Северной Америки, берёт начало из элементарных условий самого действия, безо всякого влияния теоретических спекуляций относительно возможности республиканского правления на больших территориях и даже без вынуждающей к объединению угрозы со стороны общего врага. Общей целью выступало основание нового политического организма, республиканского правления нового типа, которое основывалось бы на “элементарных республиках” таким образом, что центральная власть не лишала составляющие части их исконной конститутивной власти. Советы, иначе говоря, ревностно оберегая свою способность действовать и составлять мнение, обязаны были открыть делимость власти наряду с её наиболее важным следствием, необходимостью разделения властей и федерации.
Часто отмечалось, что Соединённые Штаты и Великобритания принадлежат к числу тех немногих стран, где партийная система функционирует достаточно хорошо чтобы обеспечить стабильность и авторитет. В обоих случаях двухпартийная система совпадает с конституцией основанной на разделении властей в госаппарате, и главная причина её стабильности заключается, безусловно, в признании оппозиции в качестве государственного института. Подобное признание, тем не менее, возможно только при допущении, что нация не является
une et indivisible (единой и неделимой - фр.), и что разделенние властей не только не ведёт к бессилию власти, но, напротив, генерирует и стабилизирует её. В конечном счете, это тот же принцип, что позволил Великобритании организовать её обширные владения и колонии в Содружество, что сделал возможным для британских колоний в Северной Америке объединиться в федеральную систему правления. Что столь решительным образом отличает двухпартийную систему этих стран, при всех их различиях, от многопартийных систем европейских национальных государств, это радикально отличное понимание власти пронизывающее всю государственную структуру (89). Если классифицировать современные режимы в соответствии с заложенным в их основу принципом власти, то окажется, что однопартийные диктатуры и многопартийные системы имеют гораздо больше общего между собой, нежели одна и вторая с двухпартийной системой. После того как в 19-м веке нация “заняла место абсолютного монарха”, в 20-м настал черёд партий занять место нации. Из этого почти закономерно вытекает, что все пороки абсолютизма, непоколебленные ни одной революцией – автократическая и олигархическая бюрократия, недостаток внутренней демократии и свободы, тенденция к “тоталитарности”, претензия на непогрешимость – унаследованы современными партиями в Европе, тогда как в Соединённых Штатах и, в меньшей степени, в Великобритании, они отсутствуют.Однако, хотя быть может и верно, что в плане устройства системы правления только двухпартийная система доказала свою жизнеспособность и одновременно свою способность гарантировать конституционные свободы, не менее верно, что лучшее чего она достигла – определённого контроля управляемых над управляющими – не в коей мере не даёт гражданам стать “участниками” в публичных делах. Самое большее, на что могут надеяться граждане, это на то, чтобы быть “представленными”, из чего ясно, что единственное что может быть представлено и делегировано – это только интерес и забота о благосостоянии избирателей, но никак не их способность к действию и мнению. При такой системе мнения народа в самом деле невозможно выявить никаким опросом, по той простой причине, что они не существуют. Мнения выявляются только в процессе открытой дискуссии и публичных дебатов, и там, где не существует возможности для обмена мнениями, могут иметь место лишь настроения - настроения масс и настроения отдельных лиц, последние не менее неустойчивы и ненадёжны, нежели первые - а не мнения. (Единственный публичный орган, в котором равно как в Америке, так и в Англии каким-то образом представлено мнение - это пресса, которую по праву зачастую сегодня рассматривают как четвёртую власть наряду с исполнительной, законодательной и судебной). Что же до современной представительной системы, то лучшее что остаётся депутату, это поступать так, как вели бы себя его избиратели окажись они на его месте. Сказанное, однако, не распространяется на вопросы интересов и народного благосостояния, которые могут быть установлены более или менее объективно, и где потребность в действии и принятии решений возникает из наличия многообразных конфликтов между группами преследующими различные интересы. Посредством групп давления, лобби и иных ухищрений избиратели могут влиять на действия своих представителей там, где дело касается их интересов, т. е. они могут вынудить депутатов исполнить свои желания за счёт желаний и интересов других групп избирателей. Во всех этих случаях избиратель ведёт себя в соответствии с интересом своей частной жизни, и тот остаток власти, который всё ещё остаётся в его руках после дня выборов, скорее напоминает бесцеремонное насилие
, с каким вымогатель вынуждает свою жертву к повиновению, нежели власть, которая возникает в процессе совместного действия и совместного обсуждения.Как бы то не было, ни у народа в целом, ни у учёных-политологов не осталось особых сомнений по поводу того, что партии в силу обладания монополией на выдвижение кандидатов, не могут рассматриваться как народные органы, но что они, как раз напротив, представляют весьма эффективные инструменты, посредством которых власть народа усекается и контролируется. Что система представительства на деле превратилась в разновидность олигархии (хотя и не в классическом смысле слова “олигархия” как господства меньшинства) видно невооружённым глазом; что мы сегодня именуем демократией представляет собой олигархию, в которой меньшинство правит в интересах большинства. Это правление является демократическим в том отношении, что народное благосостояние и частное счастье являются его основными целями; однако оно может быть названо олигархическим в том смысле, что публичное счастье
и публичная свобода вновь стали привилегией немногих.Защитники этой системы, которая по своей сути представляет не что иное как систему государства всеобщего благоденствия, придерживаются ли они либеральных или демократических убеждений, должны отрицать само существование публичного счастья и публичной свободы; они должны настаивать на том, что политика есть бремя и что её цель сама по себе не является политической. Они согласились бы с Сен-Жюстом: “La liberté
du peuple est dans sa vie privée; ne la troublez point. Que le gouvernement … ne soit une force que pour protéger cet état de simplicité contre le force même”. Åсли же, в противном случае, под впечатлением глубокой смуты нашего века, они утратили свои либеральные иллюзии насчёт врождённой благости народа, их скорее всего ждёт вывод, что “ в истории неизвестно народа, который бы управлял собой”, что “воля народа глубоко анархична; он хочет поступать как ему заблагорассудится”, что его отношение к любому правительству является “враждебным”, поскольку “государство и принуждение неразделимы”, и принуждение по определению “выступает чем-то внешним по отношению к принуждаемому” (91).Эти утверждения трудно доказать и ещё труднее опровергнуть, однако предпосылки, на которых они зиждутся, указать не так уж трудно. В теоретическом плане, самой очевидной и наиболее пагубной среди них выступает уравнивание “народа” и масс, которое выглядит чрезвычайно правдоподобно для каждого кто живёт в массовом обществе и постоянно испытывает массу неудобств с его стороны. Это относится ко всем из нас, однако автор, у которого позаимствованы эти пассажи, живёт вдобавок в одной из тех стран, где партии уже давно выродились в массовые движения, которые орудуют вне парламента и вторглись во все сферы человеческой жизни,
частной и общественной: семейную жизнь, образование, культурные и экономические интересы (92). Там, где это произошло, молчаливое уравнивание народа с массой достигает самоочевидности. Можно согласиться, что само “движение” как принцип организации обязано современному массовому обществу больших городов, однако чрезвычайная притягательность движений лежит в подозрительности и враждебности народа к существующей партийной системе и излюбленной партиями системе парламентского представительства. Там, где этого недоверия нет, как, например, в Соединённых Штатах, условия массового общества не ведут к формированию массовых движений, в то время как в странах с ещё не сложившимся окончательно массовым обществом, как, например, во Франции или Италии, становятся жертвами массовых движений, если только в них достаточно сильна враждебность к партийной и парламентской системе. Можно даже сказать, что чем более явны провалы партийной системы и коррумпированность парламента, тем легче для движения не только привлекать и организовывать народ, но и трансформировать его в массы. В практическом же плане, сегодняшний “реализм” весьма близкий “реализму” Сен-Жюста, неверие в политические способности народа, прочно опираются на сознательную и бессознательную решимость игнорировать реальность советов и почитать за само собой разумеющееся, что нет и никогда не было никакой альтернативы существующей системе.В действительности же эта альтернатива всегда состояла в том, что партийная и советская системы почти ровесники; обе были неизвестны до революции и обе являются следствиями современного и революционного в своём истоке убеждения, что все жители данной территории имеют право допуска в публичную, политическую сферу. Советы, в отличие от партий, всегда возникали во время самой революции, они спонтанно создавались самим народом как органы действия и порядка. Последнее стоит подчеркнуть особо; ничто, в самом деле, не опровергает старую выдумку об анархических и нигилистических “естественных” наклонностях народа, внезапно лишившегося узды в лице своих властей, чем возникновение советов, которые, где бы они не появлялись, и, особенно показательно, во время Венгерской революции, посвятили себя реорганизации политической и экономической жизни страны и установлению нового порядка (93). Партии, в современном смысле – в отличие от фракций типичных для всех парламентов и ассамблей, будь те наследственными или представительными - до сих пор никогда не возникали во время революции и благодаря ей; они либо существовали ранее, примеры чему мы находим в 20-м веке, либо развились с расширением избирательного права в 19-м. Тем самым партия, будучи либо придатком парламентской фракции, либо образованием вне стен парламента, представляла собой институт призванный обеспечить парламентское правление искомой поддержкой народа, чем всегда подразумевалось, что народ выражал свою поддержку посредством подачи голосов, тогда как действие оставалось привилегией правительства. Как только партии становятся воинствующими и активно вступают в область политического действия, они нарушают свой собственный принцип заодно со своей функцией в парламентском правлении, иначе говоря, они становятся подрывными организациями, причём вне зависимости от того, каковы их программы и идеологии. Дезинтеграция, распад парламентского
строя (например, в Италии и Германии после Первой Мировой войны, или во Франции после Второй) наглядные примеры того, как даже партии поддерживающие статус кво в действительности помогали сокрушить режим в момент, когда они преступали свои очерченные законом полномочия. Действие и прямое участие в публичных делах, представляющие естественное устремление советов, в институте собственной функцией коего всегда было выдвижение депутатов и тем самым отречение от власти в пользу представительства, являют собой очевидные симптомы не здоровья и жизнеспособности, но упадка и испорченности.Поскольку едва ли кто возьмётся оспаривать, что наипервейшей характеристикой в других своих чертах значительно разнящихся партийных систем служит то, “что они “выдвигают” кандидатов на выборные посты в представительном правлении”, что даже будет правильней сказать, что “самого акта выдвижения вполне достаточно, чтобы возникла политическая партия” (94). Следовательно, с самого начала партия как институт предполагает, что либо участие граждан в публичных делах гарантировано другими политическими институтами – чего, как мы видели, в действительности нет – либо что такое участие нежелательно и что слои населения, которым революция открыла доступ к политической сфере, должны удовлетвориться представительством. Наконец, в государстве всеобщего благоденствия все политические вопросы в конечном счёте являются задачами администрирования, которые должны вестись и решаться экспертами. В таком случае даже представители народа вряд ли обладают
свободой действия, выступая в роли административных служащих, чиновников, чьи задачи хотя и принадлежат к публичным делам, немногим отличны от функций частного менеджмента. Если подобное развитие необратимо (а кто способен игнорировать масштабы, в каких политическая сфера в наших массовых обществах отмерла и оказалась вытесненной тем “управлением вещами”, которое Энгельс предсказывал для бесклассового общества?) тогда, конечно, советы должны рассматриваться как атавистические институты, не имеющие никакой перспективы. Однако то же или нечто весьма схожее в подобном случае должно вскорости ожидать и саму партийную систему; ибо администрирование и менеджмент, будучи обусловленными жизненными нуждами лежащими в основе всех экономических процессов, в своей сути не только не имеют отношения к политике, но даже не являются партийными. В обществе достигшем изобилия конфликтующие классовые интересы не обязательно будут решаться за счёт друг друга, а принцип оппозиции находит применение только там, где существует возможность подлинного выбора не связываемого “объективными” оценками экспертов. Где правительство в действительности стало администрацией, там партийная система обречена на некомпетентность и расточительность. Единственная функция, на какую партийная система могла бы претендовать при подобном режиме, это предохранение его от коррупции государственных служащих, однако даже и эта функция гораздо успешней и надёжней могла бы выполняться полицией (95).Этот конфликт между двумя системами: партиями и советами, играл решающую роль во всех революциях 20-го века. Вопрос фактически стоял так: представительство или прямое действие и участие в публичных делах. Советы всегда были органами действия, революционные партии – органами представительства, и хотя революционные
партии скрепя сердце признавали советы в качестве инструментов “революционной борьбы”, они даже в разгар революции пытались управлять ими изнутри. Они вполне отдавали себе отчёт, что ни одна партия, сколь бы революционной она не была, не смогла бы пережить преобразование правления в подлинную Советскую Республику. Ибо для всех партий потребность в действии была чем-то преходящим, они не сомневались, что после победы революции дальнейшее действие оказалось бы попросту излишним или даже вредным. Недобросовестность и погоня за властью не были решающими причинами, побудившими профессиональных революционеров обратиться против революционных органов народа; таковыми скорее были исходные убеждения, которые революционные партии разделяли со всеми остальными. Таковым было убеждение, будто целью всякой политики выступает благосостояние народа, и что её сутью является не действие, но управление, администрирование. В этом отношении не покажется преувеличением, что все партии от правых до левых имели гораздо больше общего между собой, чем революционные группы – с советами. И всё же не только обладание первыми верховной властью и средствами насилия решило в конечном счёте вопрос в пользу партии и однопартийной диктатуры.В то время как революционные партии никогда не понимали до какой степени система советов воплощала в себе новую форму правления, советы также оказались не в состоянии осознать, в какой степени государственный механизм в современных обществах обязан выполнять функции администрирования. Фатальная ошибка советов всегда состояла в их неумении чётко разграничить участие в публичных делах от управления вещами и менеджмента в интересах общества. В форме советов рабочих они снова и снова пытались взять в свои руки управление фабриками, и все эти попытки завершились катастрофическим провалом. “Желание рабочего класса, - могли мы слышать, - осуществилось. Фабрики будут управляться советами рабочих” (90). Это так называемое желание рабочего класса больше отзывает попыткой революционной партии устранить опасного конкурента в борьбе за политическое влияние путём увода советы от политических дел назад на фабрики. Подозрение это навеяно двумя соображениями: советы всегда были организациями по преимуществу политическими, в которых социальные и экономические требования играли весьма незначительную роль, и как раз этот недостаток интереса к социальным и экономическим вопросам был, с точки зрения революционной партии, явным признаком “мелкобуржуазной, абстрактной, либералистской” ментальности (97). На самом деле это служило свидетельством их политической зрелости, в то время как желание рабочих управлять фабриками было признаком вполне понятного, но политически неуместного, желания отдельных лиц занять положение, которое до того было доступно только для выходцев из средних классов.
Конечно же, управленческий талант не обошёл стороной людей из рабочего класса; беда только в том, что советы рабочих были самыми неподходящими местами для его выявления. Ибо люди которым доверяли и которых выдвигали из своей среды, отбирались по политическим критериям: за их надёжность, личную честность, независимость суждений, часто за физическое мужество. Вместе с тем те же люди, обладая полным набором политических качеств, не могли не потерпеть неудачу, когда брались за управление фабрикой или другие административные обязанности. Ибо качества государственного деятеля или политика и качества менеджера или администратора не только не тождественны, они очень редко сочетаются в одном человека; одни предполагают умение обращаться с людьми в области человеческих отношений, принципом которой выступает свобода, другие же - знание как управлять вещами и людьми в сфере жизни, принципом которой является необходимость. Советы на фабриках привнесли элемент действия в процессы управления вещами, и это действительно не могло не вызвать хаоса. Именно эти заранее обречённые на неуспех попытки снискали системе советов дурную славу. Из этого вытекает, безусловно, что они оказались неспособны к организации, или скорее к перестройке экономической системы страны, но также и то, что главной причиной этой неудачи был не пресловутый анархизм народа, но его не в то русло направленная политическая активность. В то же время, с другой стороны, причина, почему партийный аппарат, невзирая на все свои многочисленные пороки – коррупцию, некомпетентность и невероятную расточительность – в конечном счёте одержал победу там, где советы потерпели поражение, лежит как раз в его изначально олигархической и даже автократической структуре, сделавшей его столь ненадёжным в политическом отношении.
Свобода, где бы она не существовала в качестве осязаемой реальности, была пространственно ограничена. Это особенно наглядно видно на примере важнейшей и самой элементарной изо всех негативных свобод, свободе передвижения; границы национальной территории или стены города-государства очерчивали и защищали пространство в пределах которого человек мог передвигаться свободно. Договоры и международные гарантии служили расширению этой территориально ограниченной свободы граждан за пределы их собственной страны, но даже в современных условиях свобода остаётся пространственно ограниченной. То, что справедливо по отношению к свободе передвижения, в значительной степени применимо и к свободе в целом. Свобода в позитивном смысле, как свобода действий и мнений, возможна только среди равных, само же равенство не коим образом не является универсальным принципом, будучи приложимо только с определёнными ограничениями и прежде всего в некоторых пространственных границах. Если мы приравняем эти пространства свободы
– которые, следуя духу, хотя и не букве, Джона Адамса, мы могли бы также назвать пространствами явлений – с самой политической областью, то на ум тотчас же придёт сравнение их с островами в море необходимости или оазисами в пустыне произвола. И это, как мне представляется, не просто метафоры, они также весьма удачно соответствуют историческим реалиям.Феномен, который я намерена здесь затронуть, обычно обозначался как “элита”, однако этот термин представляется мне не вполне уместным не потому, что я сомневаюсь, будто политический образ жизни никогда не был и никогда не будет образом жизни многих, несмотря даже на то, что политика по определению затрагивает более чем многих, конкретно, всю совокупность граждан. Политические качества – мужество, стремление к
превосходству невзирая не только на социальный статус и место на служебной лестнице, но даже на достижения и признание на политическом поприще – возможно, не столь уж редки как мы склонны думать, живя в обществе превратившем все добродетели в социальные ценности; однако в любом случае они не укладываются в общий ранжир. Моё возражение термину “элита” в том, что он подразумевает олигархическую форму правления, господство немногих над многими. Из этого напрашивается вывод (который и делала вся наша традиция политической мысли), что доминирующей политической страстью выступает воля к власти. Мне представляется это в корне неверным. Тот факт, что политические “элиты” всегда определяли политические судьбы многих и осуществляли в большинстве случаев господство над ними, свидетельствует, с одной стороны, об острой потребности немногих защитить себя от многих, или, лучше сказать, оградить островок свободы населяемый ими от окружающего моря необходимости; и, с другой стороны, он свидетельствует о серьёзной ответственности, которая автоматически ложится на тех, кто занят публичными делами, о судьбе тех, кто заботится только о своей частной жизни. Однако ни эта потребность, ни эта ответственность не затрагивает сути, самой основы их жизней, какой является свобода; и одна, и вторая лишь случайны и вторичны по отношению к действительно происходящему на ограниченном пространстве острова.Переводя это на язык современной политической жизни, деятельность депутата могла бы протекать в парламенте или конгрессе, где он находился бы среди равных себе, а не в избирательных кампаниях, когда он обычно лишь пытается заручиться голосами избирателей. Дело не только в очевидной фальши подобного диалога между избирателями и депутатами в современных системах партийного правления, где обладатель голоса может только согласиться или отказаться одобрить выбор, который (за исключением американских
primaries (англ.), собраний избирателей, где кандидаты партии выдвигаются прямым голосованием) сделан за него, и даже не в неприкрытых злоупотреблениях, таких как введение в политику методов Мэдисон авеню, превращающих отношения между представителем и избирателем в сделку продавца с покупателем. Даже там, где не нарушена коммуникация, общение между представителем и избирателем, между нацией и парламентом – и существование подобной коммуникации представляет характерное отличие между британским и американским правлением и тем, что существует в Европе – это никогда не общение между равными, но между теми, кто стремится править и теми, кто соглашается, чтобы ими правили. В самой природе партийной системы заменить “формулу “правление народа и народом” на формулу: “правление народа элитой из народа” (98).Приходится слушать, будто “глубочайшее значение политических партий” должно быть усмотрено в том, что они обеспечивают “необходимый механизм, дающий массам возможность выделять из своих рядов свою собственную элиту” (99); и в принципе можно согласиться, что именно партии на первых порах открыли доступ к политической карьере низшим слоям населения. Несомненно, партия как один из наиболее характерных институтов демократического правления соответствует одной из главных тенденций нового времени – постоянному и неуклонно возрастающему уравниванию общественных слоёв и классов, однако это не коим образом ещё
не означает, что тяга к равенству соответствует сокровенному смыслу современных революций. “Элита из народа” заменила прежние элиты рождения и богатства, однако нигде она не дала возможность народу qua народу войти в политическую жизнь и стать участниками в ведении публичных дел. Взаимоотношения между правящей элитой и народом, между немногими допущенными на политический просцениум и многими остающимися за кулисами и обделёнными светом рампы, едва ли претерпели сколь-нибудь существенные изменения. С точки зрения революции и интересов сохранения революционного духа, беда заключается не в формировании новой элиты; не убеждённые революционеры, но скорее убеждённые демократы склонны отрицать очевидную несостоятельность в политических вопросах и явное отсутствие интереса к политике у значительной части населения. Беда в том, что за пределами партий отсутствуют публичные пространства, к которым был бы открыт доступ для народа в целом и где могла бы быть отобрана элита или, скорее, где она могла бы отобрать себя. Беда, другими словами, в том, что политика стала профессией и карьерой и что “элита” тем самым избирается в соответствии со стандартами и критериями, которые в своей сути являются неполитическими.Все партийные системы устроены таким образом, что подлинному политическому таланту удаётся утвердить себя только в редких случаях и куда ещё реже политическому дарованию выпадает удача сохранить себя в мелких шиканах внутрипартийной борьбы с её требованием неприкрытого чистогана. Конечно, люди собравшиеся в советах тоже элита, более того, они - единственная политическая элита народа и из народа, какую когда-либо видел современный мир; однако они не назначены сверху и не поддержаны снизу, но свободно избраны равными себе, и поскольку подотчётны избравшим им, они ответственны и связаны с ними. Об элементарных советах, возникающих везде где люди живут и работают вместе, можно даже сказать, что они сами избрали себя; организовавшиеся таким образом – это те, у кого сильно сознание ответственности и кто взял инициативу
в свои руки; они и есть собственно политическая элита народа, вынесенная революцией на дневной свет. Члены совета “элементарных республик” затем избирают своих депутатов в совет более высокого уровня, и эти депутаты опять-таки выдвинуты равными себе; никакое давление ни сверху, ни снизу невозможно. Их положение не основано ни на чём ином, как на доверии равных, и это равенство не будет естественным, основывающимся на врождённых качествах, но политическим; это равенство тех, кто посвятил себя общему делу. Депутат, избранный и делегированный в совет более высокого уровня, вновь находит себя среди равных, поскольку депутаты каждого данного уровня в этой системе – это всегда люди облечённые особым доверием. Конечно, эта система правления, развейся она полностью, также приняла бы форму пирамиды, представляющую, без сомнения, модель по своей сути авторитарного правления. Однако в то время как во всех авторитарных правлениях известных нам из истории авторитет исходит сверху вниз, в данном случае авторитет имел бы свой источник ни на верху, и ни на низу, но на каждом из слоёв пирамиды; и такой подход способен открыть путь решения одной из самых серьёзных проблем всей современной политики, состоящей не в том, как примирить свободу и равенство, но в том, как примирить равенство и авторитет.Во избежание недоразумений, принципы отбора лучших внутренне присущие системе советов – самоотбор в низовых политических органах, спонтанность, основанность на личном доверии, и, наконец, почти автоматическое развитие в федеративную форму правления – не являются универсальными; они применимы только в рамках политического пространства. Культурная, литературная, художественная, научная и профессиональная элиты страны отвечают самым различным критериям, среди которых мы, однако, не найдём критерия равенства. То же относится и к принципу авторитета. Звание поэта не присваивается ни путём голосования собратьев по цеху, ни приказом признанного мастера. Напротив, талант поэта определяется только теми, кто любит поэзию, хотя сам зачастую не
в состоянии написать ни строки. Звание учёного же, с другой стороны, действительно определяется коллегами, однако не на основании высоких личностных и индивидуальных свойств человека; критерии в данном случае объективны и мало зависят от мнений и отдельных доводов. Наконец, социальные элиты, по крайней мере в эгалитарном обществе, где не принимаются в расчёт ни происхождение, ни богатство, формируются из людей обладающими соответствующими деловыми качествами.Можно было бы и дальше продолжать перечисление достоинств советов, однако разумней было бы сказать вслед за Джефферсоном: “Начните их с одной единственной целью и вскоре они проявят себя в качестве наилучших инструментов для всех других” – наилучших инструментов, например, для того, чтобы поставить заслон на пути современного массового общества с его опасной тенденцией к формированию псевдополитических массовых движений, или, скорее, лучший, наиболее естественный способ облагородить его, сделав ему прививку “элиты”, которую никто не выбирал и которая сама себя создала. Радости публичного счастья и ответственность за публичные дела стали бы тогда уделом немногих принадлежащих ко всем сферам, слоям общества, имеющих вкус к публичной свободе и не могущих быть “счастливыми” без неё. С точки зрения политики,
они лучшие, и задача хорошего правления и признак хорошо устроенной республики – чтобы они заняли по праву принадлежащее им место в публичной сфере. Конечно, подобная в подлинном смысле слова “аристократическая” форма правления означала бы конец всеобщим выборам как мы понимаем их теперь; ибо только те, кто в качестве добровольных членов “элементарной республики” показал, что стремится к чему-то большему, нежели просто личное счастье, и озабочен делами всего мира, имеет право быть услышанными в ведении дел республики. Тем не менее, это исключение из политики не было бы унижающим, поскольку политическая элита не коим образом не тождественна социальной, культурной или профессиональной элите. К тому же это исключение не зависело бы ни от какого внешнего органа; если принадлежащие к “элите” как бы самоизбираемы, то не принадлежащие к ней самоисключены. И подобное самоустранение от публичных дел наполнило бы конкретным смыслом и придало реальность одной из важных негативных свобод, которой мы пользовались со времени конца античного мира, а именно, свободе от политики, неизвестной Риму и Афинам и в политическом отношении, возможно, самой важной части нашего христианского наследия.Вот что, да, пожалуй, и не это одно, было утрачено, когда дух революции – новый дух и одновременно дух начинания нового – не смог обрести надлежащие институты. Ничто не в состоянии компенсировать эту утрату или предохранить от того, чтобы она стала невосполнимой, за исключением памяти и воспоминаний. И поскольку кладовая памяти присматривается и инвентаризуется поэтами, дело которых состоит в поиске и создании слов придающих смысл нашей жизни, вполне оправданно в заключение обратиться к двум из них (одному современному и другому древнему) с тем, чтобы хотя бы примерно представить, в чём состоит наше потерянное наследство. Современный поэт – Рене Шар, возможно, один из самых одарённых из множества французских писателей и художников, примкнувших к Сопротивлению во время Второй Мировой войны. Его книга афоризмов была написана в последний год войны в искреннем опасении близкого освобождения; ибо, в той мере в какой речь шла о нём самом, он был уверен, что это будет не только долгожданное освобождение от германской оккупации, но также освобождение от “бремени” публичных дел. По возвращении им пришлось бы вновь вернутся к
épaisseur triste (тупому унынию - фр.) их частных жизней и занятий, к “бесплодной депрессии” предвоенных лет, когда надо всем, что они делали, как будто бы тяготело проклятие: “Если мне суждено выжить, я знаю, что я вынужден буду забыть запах и вкус этих значительных лет, молча отвергнуть (не подавить) моё наследство”. Этим наследством, считает он, было то, что он “нашёл себя”, что он больше не подозревал себя в “неискренности”, что ему не нужно было маски и притворства, что, где бы он не был, он мог для других и для себя являться таким, каков он на самом деле, что он мог бы даже “ходить нагим” (100). Эти размышления достаточно показательны как свидетельства невольного самораскрытия, радости явления в слове и деле без раздвоенности и саморефлексии, что как раз и отличает действие. И всё же они, возможно, слишком “современны”, слишком эгоцентричны, чтобы с незамутнённой ясностью донести сокровенный смысл этого “наследства не оставленного никаким завещанием”.Софокл в “Эдипе в Колоне”, пьесе своей старости, пишет знаменитые и пугающие строки:
Μὴ φυ̃ναι τὸν άπαντα νι-
κα̃ λόγον
. το δ'επεὶ φανη,̃βη̃ναι
κει̃ς οπόθεν περ ή-κει
πολυ ̀δεύτερον ως τάχιστα.[Не родиться совсем – удел
лучший. Если ж родился ты,
В край, откуда явился, вновь
Вернуться скорее.
(пер. С. В. Шервинского)].
Здесь же он устами Тезея, легендарного основателя Афин и тем самым их глашатая, он даёт нам знать, что позволяло обыкновенным людям, молодым и старым, нести бремя жизни: полис, пространство свободных поступков и живых слов людей, вот что могло наполнить жизнь сиянием -
τòν βίον λαμπρà ποιει̃σθαι.