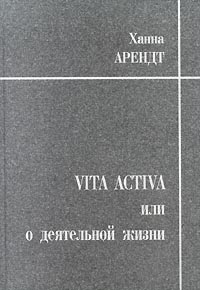
Пространство публичного и сфера частного (из книги "VITA ACTIVA, Или о деятельной жизни")
Арендт, Ханна
ВТОРАЯ ГЛАВА
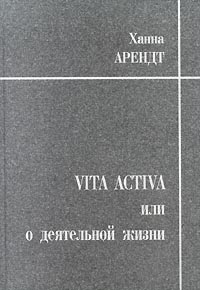
ПРОСТРАНСТВО ПУБЛИЧНОГО И СФЕРА ЧАСТНОГО
4 Человек, общественное или политическое живое существо
Vita activa, человеческая жизнь, насколько она погружается в деятельное бытие, движется в мире вещей и людей, от которого она никогда не уходит и который она ни в чем не трансцендирует. Любая человеческая деятельность разыгрывается в окружении вещей и людей; тут она локализована, а иначе утратила бы всякий смысл. Этот объемлющий мир, внутрь которого рождается каждый, обязан по сути своим существованием человеку, его изготовлению вещей, его попечительной заботе о почве и ландшафте, его действиям организации политических связей в человеческих сообществах. Не бывает человеческой жизни, пусть то жизнь отшельника в пустыне, которая, насколько она вообще отдана делу, не развертывалась бы в мире, прямо или опосредованно свидетельствующем о присутствии других людей.
Все виды человеческой деятельности обусловлены тем обстоятельством, что люди живут совместно, однако лишь действие непредставимо вне человеческого общества. Деятельность труда как таковая не обязательно требует наличия других людей, хотя существо, трудящееся в полном одиночестве, вряд ли еще оставалось бы человеком; оно было бы работающим
животным, animal laborans в самом буквальном и жутком смысле слова. Существо, изготовляющее вещи и выстраивающее лишь им одним обитаемый мир, еще могло бы называться создателем, однако homo faber — вряд ли; оно утратило бы свои специфически человеческие свойства и равнялось бы скорее богу, пусть и не Богу-творцу, но все-таки божественному демиургу, как в одном из своих мифов описывает его Платон. Только
действие, поступок исключительная привилегия человека; ни зверь ни животное не могут действовать; и лишь действие не может в качестве деятельности вообще двинуться с места без постоянного присутствия мира современников.
Этой особой связью, привязывающей действие к человеческой совместности, по-видимому совершенно оправдано то, что уже очень рано (у Сенеки) аристотелевское определение
человека как ζωον πολιτικόν, политического живого существа, было воссоздано в латинском через animal sociale, так что Фома в конце концов определенно говорит: homo est naturaliter politicus, id est, socialis: „Человек политический, то есть общественный по природе"[ii]. На деле все обстоит иначе, и самопонятность, с какой здесь общественное ставится на место политического, яснее всяких теорий выдает, насколько было утрачено греческое восприятие того, что такое собственно политика. Хотя не решающе, но все же знаменательно для ошибочного перевода, что слово „социальный" существует только в латинском и не имеет соответствия в греческом языке или в греческой мысли. Существеннее то, что слово societas исходно имело в латинском отчетливый, хотя и ограниченный политический смысл; оно означало союз, в который люди вступают друг с другом ради определенной цели, например чтобы достичь господства над другими или даже совершить преступление[iii]. Лишь когда позднее начали говорить о societas generis humani, обществе рода человеческого”[iv], можно стало считать, что к природе человека принадлежит „социальность", жизнь в обществе. Отличие от греческой мысли тут в следующем: разумеется Платон и Аристотель тоже знали что человек не может жить вне человеческого общества, но как раз это считалось ими не специфически человеческой особенностью, а наоборот чем-то общим в жизни человека и животных, что поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя было относить к особым коренным условиям человечности. Естественная, общественная совместная жизнь
человеческого рода принималась за ограничение, наложенное надобностями его биологической жизнедеятельности, именно поскольку эти надобности для человеческой жизни явно те же, как и для других форм органической жизни.
В согласии с греческой мыслью человеческую способность к политической организации надо не только отделять от природного общежития, в средоточии которого стоят домохозяйство (οικία) и семья, но даже подчеркнуто противополагать ему. Становление полиса, всецело задающего тон греческому пониманию политики, имело следствием то, что всякий „помимо своей частной жизни получил своего рода вторую жизнь, свой βίος πολιτικός. Каждый гражданин отныне принадлежал двум порядкам существования, и его жизнь характерным образом строго делилась на то, что он называл своим собственным (iδiov), и то, что оставалось общим (κοινόν)"[v]. Не прихотливое мнение или теория Аристотеля, но исторический факт то, что основанию полиса предшествовало уничтожение всех союзов, опиравшихся, подобно фратрии или филе, на природно-естественное начало, т. е. на семью и кровное родство[vi]. Из родов деятельности, которые можно встретить во всех формах человеческого общежития, только две считались собственно политическими, а именно действие (πραζις) и речь (λεζις), и только они полагают основание той „сфере дел человеческих", τα των ανθρώπων πράγματα, как имел обыкновение говорить Платон, из которой было исключено все принудительное или хотя бы просто утилитарное.
Несомненно, лишь основание городов-государств позволило грекам в столь большой мере проводить свою жизнь в этой, политической области, т. е. в деяниях и речи; однако убеждение, что эти две человеческих способности теснейшим образом взаимосвязаны и что они представляют собой высшие дары человека, похоже, древнее эпохи основания полиса и уже у Гомера считается чем-то само собой разумеющимся. Ибо уже величие гомеровского Ахилла неким естественным образом вытекает из того, что он на деле оказывается вершителем величайших деяний и глашатаем величайших слов[vii].Ив расхождении с современными представлениями его слова считались великими не потому что выражали великие мысли. Как мы знаем из последних стихов „Антигоны", все обстоит скорее наоборот: μ γάλοι λόγοι, великие слова или, как переводит Гёльдерлин, „великие взгляды,/За великие удары от высоких плеч/Должное воздающие, —/Они научили в старости думать"[viii]. Здесь прозрение и с ним мысль возникают из речи, а не наоборот, при том что говорение и действие считались одинаково изначальными и равновесными, они были равного рода и равного ранга. И это не потому лишь что всякое политическое действие, когда оно не пользуется средствами насилия, осуществляется очевидно через речь, но также и в том еще более элементарном смысле, что именно отыскание нужного слова в нужный момент, совершенно независимо от его информирующего и коммуникативного содержания для других людей, есть уже действие. Глухо только насилие, и уже по этой причине голое насилие никогда не может претендовать на величие. Даже когда в позднейшую эпоху военное и риторическое искусства тоже выходят на передний план собственно политического воспитания, само по себе это их соседство все еще обусловлено тем ранним, как бы дополитическим опытом.
Только в мире опыта самого полиса, не без оснований характеризуемого Буркхардтом как „самая болтливая" из всех государственных форм, и еще решительнее в политической философии, выросшей ведь из опыта полиса, действие и говорение все больше разлучаются, пока не образуют две совершенно отдельных друг от друга деятельности. Акцент при этом переместился с действия на говорение, причем речь опять же считалась уже не столько отличительным способом, каким люди отвечают тому или соразмеряются с тем или могут даже оборониться от того, что с ними происходит или что разыгрывается перед их глазами, но стала расцениваться теперь по сути как средство уговорить и убедить8a. Быть политическим, жить в полисе означало, что все дела улаживаются посредством слов, способных убедить, а не принуждением или насилием. Принуждать других силой, приказывать вместо того, чтобы убеждать, считалось у греков как бы до-политическим способом межчеловеческого обхождения, привычным в жизни вне полиса, скажем в обращении с домочадцами, в семейственности, где глава семьи осуществлял деспотическую власть, а также в варварских государствах Азии, чью деспотическую форму правления часто сравнивали с организацией домохозяйства и семьи. Аристотелевское определение человека как политического живого существа опиралось таким образом на опыт, который , складывался как раз вне натуральной сферы человеческого общежития и стоял к ней в заявленной противоположности. Действительно понятным оно кроме того становится тогда, когда мы присовокупляем к нему вторую знаменитую аристотелевскую „дефиницию" человека, а именно что человек есть ζφον λόγον 'έχον, живое существо, обладающее логосом. Латинский перевод этой дефиниции, animal rationale, покоится на столь же фундаментальном недоразумении, как и понятие animal sociale. Аристотель не имел в виду ни действительно дать дефиницию человека, ни определить высшую в его понимании человеческую способность, ибо эта последняя была для него не речь и словесная аргументация и аргументирующее мышление, а νους, способность созерцания, отличающаяся именно тем, что ей не соответствует речь или говорение[ix]. Что сплошь да рядом принимают за знаменитое аристотелевское определение человека, есть в действительности лишь артикулированное и концептуально проясненное воспроизведение обычного в полисе мнения о существе человека, насколько он жительствует в полисе и политичен; ибо по этому мнению неграждане полиса — рабы и варвары — оставались αν υ λόγου, без логоса, что естественно означало не что они не умеют говорить, а что их жизнь проходит вне логоса и слово как таковое для них лишено значения; именно поскольку греческая форма жизни отличалась тем, что была обусловлена речью, и средоточием всех гражданских дел было говорение друг с другом.
Глубокое непонимание, дающее о себе знать в латинском переводе слова “политический” через "социальный", всего отчетливее обнаруживается, пожалуй, когда Фома сравнивает управление домашним хозяйством с властью в общественной политической сфере: глава хозяйства, рассуждает он, имеет сходство с главой королевства, разве что, добавляет он, полнота его власти меньше королевской[x]. Здесь различие между одинаковым во всей европейской античности общественным мнением и таковым средневековья, а каждое соответственно предполагается Аристотелем и Фомой как нечто для них естественное, поистине кричаще. В самом деле, не только полису, но античности вообще было совершенно ясно, что даже власть тирана ограничена и менее полна чем та, с какой отец семейства, который действительно был dominus, владел своим рабовладельческим хозяйством и домочадцами. И это не потому, что власть политического властителя всегда была где-то скована властью связанных между собой граждан, но потому что абсолютное, непререкаемое господство внутри политической сферы расценивалось как contradictio in adiecto[xi].
5 Полис и домашнее хозяйство
Хотя недоразумение, приравнивающее политическое начало к социальному, так же старо, как перевод греческих понятий в латинские и их приспособление к латино-христианской мысли, все же Новое время с его новоевропейским понятием общества еще решительнее усложнило картину. Простое различение между приватным и публичным соответствует сфере домохозяйства с одной стороны, пространству политического с другой, а эти области существовали как различные, строго отделяемые друг от друга единицы по меньшей мере с начала античного города-государства. Ново, наоборот, возникновение некоего в собственном смысле социального пространства, совпавшего по своему появлению с зарождением Нового времени и нашедшего свою политическую форму в национальном государстве.
Мы должны в этой связи уяснить себе, до какой степени трудно из-за новоевропейских осложнений вообще понять эти решающие разделения и различия между публичным и частным, между пространством полиса и сферой домохозяйства и семьи, наконец между видами деятельности, служащими поддержанию жизни, и теми, которые направлены на общий всем мир; причем мы не должны упускать из виду, что эти разделения и различения образуют само собой разумеющееся и аксиоматическое основоположение всей политической мысли античности. Для нас само собой понятно отсутствие строгого отличия этих вещей друг от друга, потому что от истоков Нового времени всякий национальный организм и всякое политическое общественное образование мы понимаем в образе семьи, представляя ведение и упорядочение всех их дел и каждодневных занятий по типу гигантски разросшегося аппарата домашнего хозяйства. Научная мысль, отвечающая этому ходу событий, называется уже не наукой политии, а „национальной экономией", народным хозяйством или „социальной экономией", и все эти выражения указывают на то, что мы по сути имеем дело с некоего рода „коллективным домохозяйством"[xii]. То, что мы именуем сегодня обществом, есть фамильный коллектив, который экономически понимает себя как гигантскую сверхсемью, а его политическая форма организации образует нацию[xiii].
Мы поэтому лишь с трудом способны осознать, что в русле античной мысли такое понятие как политическая экономия было бы само в себе противоречивым: все входившее в „экономику", а именно принадлежавшее чисто к жизни отдельного человека и продолжению рода, уже ввиду этого идентифицировалось и определялось как не-политическое[xiv].
Исторически весьма вероятно, что возникновение города-государства и публичной сферы происходило за счет власти и значимости частной сферы, семьи и домашнего хозяйства[xv]. Тем не менее прадревняя святость домашнего очага даже в Греции, которая в разрушении семейных связей в пользу политического союза пошла намного дальше Римской республики, всегда оберегалась. И не столько уважение к частной собственности в нашем смысле мешало полису сокрушить частную сферу своих граждан, сколько ощущение, что без обеспеченной собственности никто не мог участвовать в делах общественного мира, потому что без места, которое человек действительно мог бы называть своим собственным, он как бы не поддавался в этом мире локализации[xvi]. Даже Платон, политически зашедший в отмене частной собственности ради чудовищного расширения публичной сферы так далеко, что можно говорить просто-таки об отмене у него частной жизни, все еще с величайшим уважением упоминал Зевса Геркея, защитника границ, а όροι, межевые столбы, воздвигнутые по границам владений граждан, он называет священными, не видя тут противоречия своим утопическим планам[xvii].
Сфера домашнего хозяйства имела ту отличительную черту, что совместная жизнь в ней диктовалась преимущественно человеческими потребностями и жизненной необходимостью. Силой, сплачивавшей здесь людей, была сама жизнь, жизнь индивида равно как и рода, и пенаты, римские домашние божества, были соответственно для Плутарха „богами, которые поддерживают нашу жизнь и питают наше тело"[xviii]. Что забота о поддержании жизни отдельного человека лежит на мужчине, а о поддержании рода на женщине, представлялось предписанием самой природы, и обе естественнейшие функции человека, труд мужчины, обеспечивающий пропитание, и вынашивание женщины, служащее воспроизведению, были одинаково подчинены жизненному влечению и порыву. Естественная совместная жизнь в домохозяйстве имела поэтому свой исток в необходимости, и необходимость властно пронизывала все виды деятельности, подпадавшие этой сфере.
В противоположность этому пространство полиса было областью свободы, и поскольку между этими двумя областями существовала вообще какая-то связь, она естественным
образом предполагала, что удовлетворение жизненных нужд внутри домашнего хозяйства создает условия для свободы в полисе. Ни в каком случае поэтому под политикой не могло пониматься что-то необходимое для благополучия общества — шла ли речь о сообществе верующих, как в средневековье, или об обществе собственников, как у Локка, или об обществе приобретателей, как у Гоббса, или об обществе производителей, как у Маркса, или об обществе обладателей рабочих мест, как в современном обществе западных стран, или об обществе рабочих, как в социалистических или коммунистических странах. Во всех этих случаях именно свобода общества требует и оправдывает ограничение полноты политической власти. Свобода располагается в сфере общественного, тогда как принуждение и насилие локализуются в политическом и становятся таким образом монополией государства.
Как ни склонны были греческие философы восставать против политического, против жизни в полисе, для них оставалось все же само собой разумеющимся, что местопребывание свободы располагается исключительно в политической области, а необходимость это дополитический феномен, характеризующий сферу частного хозяйства, и что принуждение и насилие оправданы лишь в этой сфере, поскольку они дают единственное средство возобладать над необходимостью — например через господство над рабами — и достичь свободы. Необходимостью, теснящей всех смертных, насилие оправдано; силой люди избавляются от накладываемой на них жизнью необходимости ради свободы мира. Эта свобода в мире была для греков условием того что они называли счастьем, sibaiμov'ia, неизменно связанным со здоровьем и благоденствием, в совокупности характеризовавшими объективное положение человека в мире. Бедный и больной оставался под игом физической необходимости, даже если юридически он был свободен; не просто бедный, но раб был сверх того подвержен насилию еще и через осуществляемое человеком господство. Это двойное и продублированное „несчастье" порабощенности не имеет отношения к тому, хорошо ли ощущает себя раб и благополучен ли он; а бедный, носвободный человек предпочитал нестабильность рынка труда с его ежедневными колебаниями обеспеченному заработку, потому что связанные с этой обеспеченностью обязательства ощущались уже как ограничение свободы; так и тяжелый труд считался менее удручающим чем легкая жизнь многих занятых в хозяйстве рабов[xix].
Дополитическое принуждение, в каком глава семейства держал домочадцев и рабов и какое считалось неизбежным именно поскольку человек „общественное" существо, пока не способен стать политическим[xx], не имеет однако ничего общего с хаотическим „природным состоянием", принятым у политических мыслителей семнадцатого века за первобытное состояние людей, от насильственности и необеспеченности которого они рекомендовали бегство в „государство", монополизирующее со своей стороны все насилие и всю власть и кладущее конец „войне всех против всех" тем, что оно „всех одинаково держит в страхе"[xxi]. Все понимаемое нами под господством и порабощением, под властью, государством и правлением, короче все наши концепции политического порядка считались наоборот дополитическими; они имели себе оправдание не в общественном, но в частном и были в собственном смысле слова неполитическими — к полису не относящимися.
Полис отличался от сферы домашнего хозяйства тем, что в нем жили лишь равные, тогда как порядок домохозяйства опирался как раз на неравенство. Свободная жизнь означала неприказные отношения, равно как предполагала свободу от давления необходимости и повелений господина. Бытие свободным исключало как господство, так и подневольность[xxii]. Внутри сферы домохозяйства таким образом вообще не могло быть свободы, даже для главы семьи, который лишь потому считался свободным, что мог оставить хозяйство и податься в политическое пространство, где оказывался в среде себе равных. Это равенство внутри полиса имеет конечно мало общего с нашей идеей эгалитарности; оно означало, что человек имеет дело только с равными себе, предполагая таким образом само собой разумеющееся существование „неравных", тем более что эти „неравные" всегда составляли большинство населения в городах-государствах[xxiii]. Равенство, в Новое время всегда требование справедливости, составляло в античности напротив собственное существо свободы: статус свободного означал свободу от всякого неравенства, присущего отношениям господства, и движение в пространстве, где не было ни господства ни подчненности.
Но здесь уже и кончается возможность уловить глубокое различие между новоевропейским и античным пониманием политического в форме контрастных пар. Самая большая трудность для любого сопоставления заключается в том, что Новое время собственно вообще не отделяет и не отличает общественное от политического. Что политика есть лишь функция общества, что действие, речь и мысль первично образуют надстройку социальных интересов, это ведь не открытие и не просто изобретение Маркса, это входит в аксиоматические предпосылки, некритично усвоенные Марксом из новоевропейской политической экономии. Происходящая здесь функционализация политического делает естественно невозможным хотя бы просто заметить дистанцию, отделяющую политическое от общественного. И тут тоже дело не в какой-то произвольной теории или идеологии, поскольку с возникновением общества в Новое время, т. е. с выходом „домохозяйства" и „экономических" (οικία) видов деятельности в пространство общественного, само ведение хозяйства и все занятия, прежде принадлежавшие к частной сфере семьи, теперь касаются всех, т. е. стали „коллективными" заботами[xxiv]. Так что в современном мире эти две области постоянно переходят одна в другую, словно они лишь волны в вечнотекущем потоке жизненного процесса.
Исчезновение пропасти, через которую люди классической древности должны были как бы ежедневно перепрыгивать, чтобы выходить из тесной области домохозяйства и подниматься в круг политического, есть по существу новоевропейский феномен. Ибо дистанция между частным и публичным в Средние века еще как-то существовала, хотя и во многом утратив свое значение, а главное совершенно изменив свое местоположение. Справедливо отмечалось, что после распада Римской империи католическая Церковь предложила замену принадлежности к публичному организму, который в последние века затянувшейся античности мог реализоваться прежде всего в муниципальном управлении[xxv]. Специфически средневековый контраст между мраком обыденности и величественным блеском святилищ создавал дистанцию между мирским и религиозно освященным, во многом отвечавшую пропасти между частным и публичным в античности; и тут тоже перешагивание из одной области в другую означало восхождение и преодоление. При всем том не надо конечно закрывать глаза на различие между античностью и средневековьем; потому что какою бы мирской ни делалась в итоге Церковь, она все еще оставалась привязана к потустороннему, коль скоро сообщество верующих могла скреплять только забота о спасении души. Однако приравнивание религиозного к публичному, пусть и с оговорками, допустимо, тогда как область мирского в века феодализма была совершенно вытеснена в тот сектор, который в античности был отведен частной сфере. Одним из примечательных знамений средневековой эпохи было то, что все виды человеческой деятельности и все повседневные, мирские события развертывались в рамках частного домохозяйства, так что, можно сказать, никакой отдельной сферы мирского и публично-общественного в собственном смысле этого слова по сути дела не существовало[xxvi].
Характерной чертой этого гигантского разрастания частной сферы и тем самым различия между античным отцом семейства и феодальным господином было то, что последний в границах своих владений имел право вершить суд, тогда как в античности бывали мягкосердые и суровые господа, справедливые и несправедливые, но не существовало собственно права и закона в отношениях между слугой и господином; право и закон вне публичной политической сферы были совершенно немыслимы[xxvii]. Приватизацию всех видов человеческой деятельности и вытекающую отсюда приватизацию всех человеческих отношений можно проследить вплоть до специфически средневековых организаций ремесленников еще и в городах, в гильдиях и цехах, confreries и compagnons, как они себя именуют в характерном тяготении к семейственности и хозяйственности отношений, и даже вплоть до ранних торговых компаний, где „исходно единое домашнее хозяйство все еще дает о себе знать в таких словах как ,компания' (com-panis, со-хлебник)... и в таких оборотах речи, как ,люди, едящие один хлеб', ,люди, делящие друг с другом хлеб и вино'"[xxviii]. Средневековое понятие „общего блага", вовсе не предполагая существования публичной политической сферы, свидетельствует скорее о признании того, что частные индивиды способны иметь общие интересы, причем как духовной, так и материальной природы, а потому оставаться в приватной сфере и заниматься исключительно своими делами они могут только когда кто-то один берет на себя соблюдение общих всем интересов. Это по сути христианское отношение к политической сфере отличается от современного не столько признанием „общего блага", сколько исключительностью приватной сферы и отсутствием того примечательного междуцарствия, в котором частным интересам приписывается публичное значение и которое мы называем обществом.
Потому и не удивительно, что
политическая мысль Средневековья, занятая исключительно мирским, ведать не
ведала о пропасти между обеспеченной жизнью внутри семьи и безжалостной
беззащитностью личности внутри полиса, как следствие не принимая мужество за
кардинальную политическую добродетель. Примечательно все же, что единственный
постклассический политический мыслитель, главной заботой которого было
восстановить политическое начало в его древнем достоинстве, а именно Макиавелли,
в своих направленных на это усилиях сразу же снова осознал и пропасть между
приватным и публичным, и то, какое мужество требуется для преодоления этой
пропасти; то и другое он описал в восхождении „кондотьера из низких
обстоятельств к высоте государева двора", т. е. из обстоятельств простой частной
личности, общих всем людям, к сияющей славе великих деяний[xxix].
Покинуть хранительную сферу усадьбы и дома, первоначально чтобы пуститься в какую-нибудь авантюру или великое предприятие, обещающее славу, позднее чтобы войти всей своей жизнью в круг публичных дел, требовало мужества, потому что только внутри приватной сферы человек мог отдаться заботе о жизни и выживании. Всякий отваживавшийся войти в политическое пространство должен был прежде всего быть готов рисковать своей жизнью, и слишком большая любовь к жизни могла лишь встать на пути свободы, считалась явным признаком рабской души[xxx]. Так мужество стало кардинальной политической добродетелью, и лишь обладавшие им могли быть приняты в сообщество, цель и смысл которого были политическими и которое поэтому заранее уже выходило за рамки простого общежития, продиктованного жизненными потребностями всех людей, будь они рабы, варвары или греки[xxxi]. „Правое и хорошее житие" (εύ ζην), как Аристотель называл жизнь в полисе, было таким образом не столько благополучнее, беззаботнее или благороднее чем обычная жизнь, сколько иного ранга и иного качества. Хороша она была только в той мере, в какой ей удавалось подняться над жизненными нуждами, избавиться от труда и работы и в известном смысле преодолеть жажду жизни, природную у всех живых существ, в значительной мере избежав порабощения биологией жизненного процесса.
Греческая мысль с несравненной ясностью и отчетливостью выразила эти лежащие в основе ее политического сознания разграничения. Никакой деятельности, служащей лишь цели жизнеобеспечения и поддержания жизненного процесса, не было дозволено появляться в политическом пространстве, и это со столь явным риском оставить всю торговлю и ремесла прилежанию и предприимчивости рабов и чужеземцев, что Афины действительно стали тем „Пенсионополисом", населенным „пролетариатом потребления", который так проникновенно описывает Макс Вебер[xxxii]. Истинный характер этого полиса еще отчетливо выступает перед нами даже в политических философиях Платона и Аристотеля, хотя разграничительная линия между хозяйством и полисом здесь начинает уже расплываться, что находит выражение в склонности, особенно у Платона (по-видимому, вслед за Сократом) заимствовать сравнения и примеры для полиса из частной жизни и повседневности, тогда как Аристотель, в этом отношении более осторожный, допускает все же вместе с Платоном, что по крайней мере историческое происхождение полиса должно было быть связано с человеческими жизненными надобностями и что лишь его существо или присущая ему цель (τέλος) трансцендирует за пределы просто жизни в „хорошую жизнь"[xxxiii].
Но как раз эта часть учений сократической школы — ставшая скоро столь самопонятной, что теперь мы встречаем ее уже лишь как банальность, — тогда была совершенно новой и революционной, и возникла она не из реального опыта политической жизни той эпохи, а из желания освободиться из-под ига публичной жизни, желания, которое философы даже сами перед собой могли оправдать только тем, что всячески подчеркивали, как даже эта свободнейшая из всех известных жизненных форм в действительности все же была еще связана с нуждами и подчинена необходимости. Тем не менее опыт полиса оставался, по крайней мере для Платона и Аристотеля, еще слишком мощной почвой чтобы позволить им хоть раз всерьез сомневаться в разнице между жизнью домохозяина и жизнью в полисе. Для не справившихся с жизненно необходимыми хозяйственными делами ни жизнь ни „хорошая жизнь" невозможны, однако политика существует никогда не просто ради выживания. Что касается обитателей полиса, то для них жизнь внутри хозяйственной сферы вообще существует только ради „хорошей жизни" в полисе.
6 Возникновение
общества
Пространство общественности возникло, когда недра домашнего хозяйствования с присущими ему родами деятельности, заботами и организационными формами выступили из хранительного мрака домашних стен в полную просвеченность публичной политической сферы. Этим была не только смазана давняя разграничительная линия между приватными и публичными делами; самый смысл этих понятий, равно как значение, какое каждая из двух этих сфер имела для жизни индивида как частного человека и как гражданина сообщества, переменились до неузнаваемости. Мы ни на манер греков не могли бы сказать что жизнь, проводимая лишь внутри своего самого узкого (tδiov) круга, „идиотична", поскольку не принимает участия в общественном мире, ни под приватностью не понимаем то пусть необходимое, но все-таки лишь временное бегство от треволнений республики, res publica, какого римляне искали и находили поодаль от города, гражданами которого они были, в своем частном владении. Для нас приватное очерчивает сферу такой интимности, какая в греческой античности нам прямо-таки неведома, какую в ее истоках мы способны проследить лишь вплоть до позднеримского времени, но какая в ее развернутом многообразии не была во всяком случае известна ни одной эпохе до Нового времени.
Тут намного больше чем простое смещение акцентов. Для античности решающим было то, что все приватное есть лишь приватное, что человек в нем, как показывает само слово, живет в состоянии лишения, а именно лишен своих высших возможностей и человечнейших способностей. Кто не знал ничего кроме приватной стороны жизни, кто подобно рабам не имел доступа к общественному или подобно варварам вообще просто даже и не учредил открытую всем публичную сферу, собственно человеком не был. Если мы сейчас в слове „приватный" уже не слышим, что исходно оно означает состояние лишенности, то между прочим еще и потому, что новоевропейский индивидуализм принес с собою столь громадное обогащение частной сферы. Существеннее для нашего понимания приватности однако то, что она теперь отличается не только, как в античности, от публичного, но и прежде всего также от социального, античности неведомого и помещавшегося ею по своему содержанию в сферу приватного. Решающе для черт, какие приняло приватное в Новое время, решающе прежде всего для его важнейшей функции, обеспечения интимности, то, что исторически оно было открыто как противоположность не только политическому, но и социальному, с которым оно поэтому и состоит в более тесной и сущностной связи.
Первый просвещенный открыватель и в известной мере также теоретик интимного был Жан-Жак Руссо, примечательным образом до сих пор все еще единственный среди великих авторов, кого часто упоминают только по имени, без фамилии. Бунт, приведший его к этому открытию, был направлен не против гнета государственного аппарата, но прежде всего против невыносимого ему извращения человеческого сердца в обществе, против вторжения социальности с ее мерками в душевные недра, которые до того по-видимому не нуждались ни в какой особой защите. Как интимность сердца вне дома и крова, в мире, места не имеет, так социальное, против которого она бунтует, отстаивая свое достоинство, тоже не поддается столь же надежной локализации как публичное; в сравнении с открытым политическим пространством социальная сфера всегда отягчена чем-то неуловимым. Поэтому лишь естественно, что для Руссо интимное подобно социальному предстает чем-то субъективным, он их считает как бы формами человеческой экзистенции, причем в его случае это принимает почти такой оборот, как если бы бунт поднял не Руссо против общества, а Жан-Жак против человека, которого общество зовет Руссо. В этом бунте сердца против собственной социальной экзистенции родился современный индивид с его неизменно переменчивыми настроениями и наклонностями, в радикальной субъективности его чувственной жизни, заплутавшейся в бесконечных внутренних конфликтных ситуациях, которые все коренятся в двоякой неспособности, чувствовать себя в социуме как дома и жить вне социума. Как бы ни относиться к личности Руссо, о которой мы к сожалению так исключительно информированы, аутентичность его открытия столь многими его последователями подтверждена и стоит вне сомнений. Высшее цветение поэзии и музыки от середины восемнадцатого до последней трети девятнадцатого столетия, ошеломляющее развитие романа до самостоятельной художественной формы, собственное содержание которой образует социальная реальность, одновременно с этим явственный упадок публичных художественных форм, особенно архитектуры — все это показывает, каким тесным родством связаны интимное и социальное.
Бунт против социальности, в ходе которого Руссо и романтизм после него открыли пространство интимного, был направлен прежде всего против ее нивелирующих черт, против того, что мы нынче зовем конформизмом и что по сути является признаком всякого социума. Подтверждением здесь является уже то, что бунт начался так рано, заведомо до того как принцип равенства, который после Токвиля мы склонны делать ответственным за конформизм, имел время действенно дать о себе знать в социальном теле и политических учреждениях. В этой связи неважно, состоит ли нация из равных или неравных членов, ибо общество всегда требует от тех, кто к нему вообще принадлежит, чтобы они поступали как члены одной большой семьи, в которой должен царить только единый взгляд на вещи и только единый интерес. До новоевропейского распада семьи этот единый интерес и отвечающее ему воззрение на мир имели своего представителя в хозяине дома, чье господство препятствовало разброду мнений и конфликту интересов в лоне семьи[xxxiv]. Примечательное совпадение расцвета общества с падением семьи ясно указывает на то, что общество своим возникновением среди прочего обязано тому, что семью поглощали группы, которые оказывались всякий раз ей социально отвечающими, т. е. с которыми она находилась на приблизительно том же житейском уровне. Равенство между членами общества не имеет вследствие этого ровно ничего общего с равенством равночестности, общением-с-себе-подобными, известным нам от классической древности как условие политического; оно напоминает скорее равенство всех членов одного семейства под деспотической властью главы семьи; разве что только потребности в таком господстве, осуществляемом одиночкой, представителем общих интересов и единогласного мнения, внутри общества не было, коль скоро здесь естественно возросшая сила семейных интересов через простое суммирование многих семей в одну группу невероятно возросла. Единоличного господства здесь действительно уже не требовалось, потому что сама же ударная сила общего интереса вставала на его место. Конформизм каким мы его знаем, когда полное единодушие достигается среди полной добровольности, есть лишь заключительная стадия этого процесса.
Правда, монархический принцип единовластия, которое в античности считалось типической формой организации хозяйства, внутри современного общества — которое, каким мы его сегодня знаем, уже не имеет, как на начальных стадиях своего развития, своей идеальной формой дворцовое хозяйство абсолютной монархии, — изменился в том отношении, что в обществе как раз никто господствует или правит. Однако этот никто, а именно гипотетическое единство экономических общественных интересов, как и гипотетическое единодушие расхожих мнений в салонах хорошего общества, правит не менее деспотично оттого, что не привязан ни к какому конкретному лицу. Феномен господства этого никто нам слишком уж хорошо известен по „социальнейшему" из всех государственных формирований, бюрократии, которая не случайно на последней стадии национально-государственного развития приходит к господству, а именно в процессе развития, начало которому было положено абсолютной монархией просвещенного деспотизма. Господство обезличенного никто настолько не означает отсутствия господства, что при известных обстоятельствах способно оказаться одной из самых мрачных и тиранических форм правления.
Решающим для этих феноменов является в конечном счете лишь то, что общество на всех своих стадиях развития точно так же, как прежде сфера домохозяйства и семьи, исключает действие в смысле свободного поступка. Его место занимает поведение, которое в различных по обстоятельствам формах общества ожидается от всех его членов и для которого оно предписывает бесчисленные правила, все сводящиеся к тому чтобы социально нормировать индивидов, сделать их социабельными и воспрепятствовать спонтанному действию, равно как выдающимся достижениям. Для Руссо дело идет пока еще о салонах хорошего общества, чьи условности отождествляют индивида с положением, которое он занимает в социальной иерархии. Для этого отождествления личности и общественного положения относительно безразлично, осуществляется ли оно в рамках полуфеодального общества, где социальное положение совпадает со ступенью иерархии, или в классовом обществе девятнадцатого столетия, где задавали тон звания, или наконец в современном массовом обществе, в котором речь идет уже только о функциях внутри социального процесса. В массовом обществе изменилось разве что только то, что теперь отдельные социальные группы, возникшие из распада семьи, разделяют судьбу этой исконнейшей общественной группы, семьи; ибо как социум некогда проглотил семью, так в нашем столетии массовое общество в конечном счете всосало в себя и нивелировало социальные классы и группировки. В массовом обществе социальное в ходе векового развития достигло наконец точки, когда все члены того или иного коллектива одинаково скованы и с равной силой контролируются. Массовое общество демонстрирует победу социальности вообще; оно являет собой ту стадию, когда стоящих вне общества групп просто уже нет. Нивелировка же свойственна обществу при любых обстоятельствах, и победа равенства в современном мире есть лишь политическое и юридическое признание того факта, что социум овладел сферой публичной открытости, причем автоматически всякая отличительность и особность становится частной принадлежностью отдельных индивидов.
Эта современная эгалитарность, которая опирается на присущий всякому обществу конформизм и возможна лишь поскольку поведение в иерархии человеческих связей заступило на место поступка, во всех аспектах отличается от равенства, каким мы его знаем из античности и прежде всего через греческие города-государства. Принадлежать к числу, всегда малому, „равных" (ομοιοι) значило тогда, что человек может проводить свою жизнь среди равных по достоинству, что само по себе уже считалось привилегией; но полис, а стало быть само публичное пространство, было местом сильнейшего и ожесточеннейшего спора, в котором каждый должен был убедительно отличить себя от всех других, выдающимся деянием, словом и достижением доказав, что он именно живет как один из „лучших" (αιέν άριστεύειν)[xxxv]. Другими словами, личное пространство было отведено именно для непосредственного, для индивидуальности; это было единственное место, где каждый должен был уметь показать, чем он выбивается из посредственности, чем он на деле в своей незаменимости является. Ради этого шанса достичь необычайного и видеть подобные достижения, из любви к политическому самостоянию граждане полиса более или менее с охотой брали на себя свою часть судопроизводства, защиты, управления государством — груз и тяготу не социальной рутины, а государственных дел.
На том же конформизме, которого требует социум и с помощью которого он организует поступающих людей в поведенческие группы, покоится и наука, шедшая следом за возникновением социума, а именно политическая экономия, чьим важнейшим техническим инструментом является статистика, где подрасчетность человеческих реакций подразумевается уже сама собой. Конечно, экономические теории существовали и до начала Нового времени, но они принадлежали к областям этики и политики, где не играли сколько-нибудь важной роли, причем исходили из предпосылки, что и в хозяйственных делах люди все равно остаются еще действующими, поступающими существами. Свою заявку на научность подобные экономические теории вообще смогли выдвинуть лишь когда социум достиг поведенческого единства, чьи формы стало теперь возможно исследовать и унифицируя систематизировать, поскольку все диссонансы стало можно заносить на счет отклонений от значимой в обществе нормы и потому списывать как асоциальные или аномальные[xxxvi].
Законы статистики значимы везде там, где на сцену выступают очень большие числа или очень долгие отрезки времени; глядя со статистической точки зрения, деяния или события в их уникальности остаются просто отклонениями или колебаниями. Однако эта статистическая точка зрения по-своему оправданна, коль скоро деяния или события по самой своей сути редки и всегда выделяются на фоне повседневности, всегда поддающейся вычислению. При этом забывают только, что эта самая повседневность почерпает для себя свой смысл не из повседневности же, а из события или деяния, конституировавшего эту повседневность и ее будни; подобно тому как движение истории показывает свой реальный смысл на относительно редких событиях, прерывающих само это движение. Когда таким образом законы, значимость которых подтверждается только на больших числах и долгих промежутках времени, неосторожно прилагают к явлениям политики и истории, эти явления тем самым исподволь элиминируются, вгоняются, пусть на правах отклонений, в ту самую колею, откуда они правда и выбились, но куда они как раз не вписываются. Явно бессмысленное равно как и безнадежное предприятие — выискивать значение в политике или смысл в истории, предварительно исключив из них как несущественное как раз то, что не только несет в себе весь смысл и значение, но и способно наделить им то, что в себе ни смысла ни значения не имеет, — повседневное поведение и автоматические исторические процессы.
Из бесспорного действия статистических законов в области больших чисел для нашего современного мира следует к сожалению лишь то, что всякое приращение населения придает этим законам возрастающую значимость, на фоне которой „отклонения" становятся все менее существенными. В аспекте политики это значит: чем больше растет население тех или иных политически конституировавшихся коллективов, тем больше вероятность того, что первенство внутри публичной сферы получит социальный, а не политический элемент. Греки, чей город-государство до сего дня представляет самое „индивидуалистическое" и самое неконформистское политическое тело, какое нам известно в истории, хотя и ничего не знали о статистике, однако отлично сознавали то обстоятельство, что полис, отдающий поступку и слову предпочтение перед любой другой деятельностью, может существовать только если число граждан удерживается в определенных границах. Большие скопления людей развивают почти автоматическую тенденцию к деспотическим формам правления, будь то тираническое господство одного человека или деспотизм того или иного большинства. Статистика, т. е. математическое манипулирование действительностью, была вплоть до новоевропейского сдвига неизвестна, но социальные феномены, делающие такую манипуляцию внутри области человеческих реалий возможной, — а именно большие числа, влекущие за собой в социальной практике конформизм, поведенчество и автоматизм, — грекам с их первых шагов были известны очень хорошо; это были как раз вещи, которыми персидская цивилизация отличалась от греческой.
Что бы поэтому ни выдвигалось против бихевиоризма и его теории поведения, трудно отрицать его релевантность для действительности, в которой мы живем. Чем больше людей налицо, тем более верными становятся его „законы" ведения себя, behavior, т. е. тем более правдоподобным кажется, что люди действительно следуют обычным линиям поведения, и тем менее правдоподобным — что они станут хотя бы просто терпеть тех, кто поступает иначе. Статистически это может сказаться в нивелировании отклонений и колебаний, в действительности же даст о себе знать в том, что поступок будет иметь все меньше перспектив остановить растущий разлив поведенчества и события утратят свое значение, так что им уже не удастся прерывать и озарять своим светом историческое движение. В самом деле, статистическое причесывание исторических процессов под одну гребенку давно уже перестало быть безвредным научным идеалом; это с уже давнего времени скорее открытый политический идеал коллектива, который ничего не желает знать кроме „счастья" обыденного существования и потому по праву ищет и находит в социальных науках „истины", отвечающие его собственным экзистенциальным привычкам.
Для униформированного поведения, поддающегося статистическому просчету и потому научной дефиниции, либеральная гипотеза автоматической гармонии интересов в духе классической национальной экономии едва ли является достаточным объяснением. Не Марксу в первую очередь, но самим же либеральным экономистам-теоретикам пришлось ухватиться за „коммунистическую фикцию" и говорить об интересе общества как такового, ведущем „невидимой рукой" (Адам Смит) всех людей в их социальном поведении и так постоянно восстанавливающем гармонию противоборствующих интересов[xxxvii]. Разница между Марксом и его предшественниками была только та, что он, так же всерьез принимая факт противоборства интересов, как и научную гипотезу тайно в корне этого противоборства залегающей гармонии, оказывался только более последовательным, когда извлекал отсюда верный вывод, что „обобществление человека" автоматически приведет к гармонизации интересов; подобно тому как его предложение учредить в действительной жизни „коммунистическую фикцию", лежавшую в основе всех экономических теорий, от учений его предшественников отличалась прежде всего большей отвагой. Маркс не понимал — и в свою эпоху вряд ли мог понять, — именно того, что зародыши коммунистического общества уже наклевывались в реальности единого национального хозяйствования и что его полное развертывание саботировалось не столько теми или иными классовыми интересами, сколько монархической структурой национального государства, уже тогда устарелой. На пути „гладкого" функционирования социума стояли помехой еще некоторые традиции, а именно позиция „отсталых" классов. С точки зрения социальности дело тут шло лишь об интерферирующих факторах, сковывающих развитие „общественных сил"; они в известной мере были гораздо фиктивнее и дальше от действительности чем гипотетическая научная „фикция" коллективного интереса общества в целом.
Везде, где общество полностью развивается и одерживает победу над всеми другими, асоциальными элементами, оно с необходимостью порождает, хотя и в различных формах, подобную „коммунистическую фикцию", отмеченную тем, что в ней действительно правит „невидимая рука", что ее господин никто. Тогда в самом деле на место государства и управления выступает голое администрирование, совершенно верно предсказанное Марксом как „отмирание государства", хотя он ошибался, полагая, что только революция способна привести этот процесс к победе, и еще более роковым образом ошибался, веря, будто окончательная победа социальности в конечном счете приведет к „царству свободы"[xxxviii].
Чтобы оценить размах победы социальности в Новое время, — начавшейся с того, что поступок был вытеснен поведением, и приведшей к замене личной власти бюрократией, в которой господствует никто, — следует обратить внимание, что поведением и его законами первоначально определялись лишь экономические науки, стало быть лишь ограниченная сфера человеческой деятельности, но затем через сравнительно краткий промежуток времени общественные науки пошли по следам политэкономии и теперь со своей стороны подобно поведенческим наукам сознательно ставят себе целью редуцировать человека во всей его деятельности до уровня всесторонне обусловленного и определенным образом ведущего себя живого существа, стремясь понять его в таком качестве. Если политэкономия есть наука социума в начальной стадии, когда его правила поведения признаны лишь определенными слоями населения и лишь для определенных видов деятельности, то возникновение „поведенческих наук" знаменует конечную стадию этого развития, на которой массовое общество овладело всеми группами населения страны и социальное поведение стало масштабом для всей жизни одиночки.
С самого рождения социума, т. е. с тех пор как частное хозяйство и требующееся в нем хозяйствование стали делом государства, эта новая область отличается от более давних сфер частного и публично-открытого неодолимой тенденцией к экспансии, постоянным ростом, который с самого начала грозил заглушить старейшие сферы политического и приватного, равно как в конце концов и новейшую область интимного. На протяжении трех веков мы можем наблюдать этот процесс роста в его постоянном ускорении, и основание для этого поистине весьма примечательного феномена нарастания заключается в том, что через социальность сам процесс жизни в его разнообразнейших формах был введен в пространство публичного. Область частного хозяйствования была сферой, осуществлявшей заботу о жизненных нуждах, об индивидуальном выживании, равно как о продолжении рода, гарантиях жизни. До открытия интимности к характерным признакам частной сферы принадлежало то, что человек в ней экзистировал собственно не как человек, а как экземпляр рода, и здесь скрывалось истинное основание для безмерного презрения античности к людям, вращавшимся лишь в сфере приватного. Возникновение социальности правда решающим образом изменило оценку всего этого круга человеческой экзистенции, однако отсюда еще не следует, что из-за смены оценки что-то в ее существе изменилось. Монолитный характер социума во всех его разновидностях, когда естественный конформизм признает всегда лишь один интерес и одно мнение, имеет в конечном счете своим корнем единство человеческого рода. Поскольку это единство человеческого рода не продукт воображения и оно значительно больше чем лишь научная гипотеза, „коммунистическая фикция" классической политэкономии, массовое общество, вполне эмансипировавшее человека как социальное животное и таким путем вроде бы взявшееся гарантировать выживание человеческого рода в глобальном масштабе, вместе с тем грозит уничтожить человечность, собственное человеческое бытие человека; похоже на то, как если бы именно человеческий род был способен подвести человечество к отмиранию.
Что социум в действительности есть форма, в какой сам по себе процесс жизни публично институировал и организовал себя, всего яснее демонстрирует пожалуй тот факт что за относительно краткое время все новоевропейские сообщества, в которых социальное тем или иным образом достигло господства, превратились в коллективы работников или работодателей, что по сути означает просто что принцип их организации выводится из одного единственного рода деятельности, непосредственно служащего поддержанию жизни и непосредственно диктуемого жизненным процессом. (Даже и в обществе трудящихся естественно не каждый будет рабочим или тружеником; решающим здесь является даже не эмансипация рабочего класса и чудовищный потенциал власти, каким всеобщее избирательное право автоматически наделяет большинство, а единственно только то что все члены общества, чем бы они ни занимались, рассматривают свою деятельность преимущественно как поддержание жизни для себя самих и своих семей.) Социум есть та форма совместной жизни, где зависимость человека от ему подобных ради самой жизни и ничего другого достигает публичной значимости и где вследствие этого виды деятельности, служащие единственно поддержанию жизни, не только выступают на открытой публичной сцене, но и смеют определять собою лицо публичного пространства.
Далеко не все равно, осуществляется ли та или иная деятельность приватно или публично. Характер публичного пространства явно меняется смотря по тому, какой деятельностью оно заполнено, но и сама деятельность тоже изменяет свое существо смотря по тому, занимаются ли ею приватно или публично, причем в весьма высокой степени. Так трудовая деятельность, при всех условиях остающаяся привязанной к жизненному процессу, могла на протяжении тысячелетий оставаться стационарной, замкнутой в круге всегдашнего возвращения, захватившем сам процесс жизни, к которому она прикована. Оттого, что теперь труд допущен в область публичного, его процессуальный характер никоим образом не изменился, — что все-таки примечательно, если подумать о том, что политические организмы вообще планировались надолго и их законы понимались как ограничения, поставленные подвижности людей, — но это освободило процесс труда от его монотонно кружащей повторяемости и придало ему стремительно прогрессирующее развитие, результаты которого за два-три столетия полностью изменили весь обитаемый мир.
Едва труд освободился от вытеснявших его в приватную сферу ограничений — и это освобождение труда было не следствием эмансипации рабочего класса, но наоборот шло впереди нее и было ее предпосылкой, — случилось так, как если бы присущие жизни стихии роста внезапно взяли верх над процессами угасания, ей в равной мере свойственными, как бы заглушили их, словно органическая жизнь в ее человеческой форме уже не привязана к равновесию внутри хозяйства самой природы, держащегося своих путей. Социальное пространство, в котором процесс жизни учреждает свою собственную публичную сферу, известным образом развязало неестественный рост самого же природного; и противостоять не только социальности, но и этому постоянному разрастанию самого социального пространства приватное и интимное с одной стороны и политическое (в узком смысле слова) с другой оказались неспособны.
То, что мы здесь охарактеризовали как неестественное разрастание природного, обычно описывают как постоянно ускоряющееся возрастание производительности труда. Это возрастание однако началось не с изобретения машин, но с организации труда, а именно с разделения труда, как известно предшествовавшего промышленной революции; да и механизация трудового процесса, последовавшая за разделением труда и еще больше повысившая производительность труда, в конечном счете все еще покоится на принципе организации. Этот принцип однако возник явно не в приватной, а в публичной сфере; разделение труда и последовавшее за ним повышение производительности труда были направлением развития, которое труд мог принять только в условиях публичной сферы и на которое его ничто не могло бы толкнуть в приватности семейного хозяйствования[xxxix]. Совершенно очевидно, что ни в какой другой области наше Новое время не пошло так далеко, как в революционном преобразовании труда, а именно до той точки, когда само значение слова — исконно включавшее „беду и муку", усилие и боль, даже телесное увечье, всё, на что человек мог решиться только под гнетом нищеты и несчастья, — для нас утратило свой смысл[xl]. Поскольку жестокая необходимость поддержания жизни понуждала к труду, совершенство было последнее, чего можно было от него ожидать. Совершенство и тягостное, мучительное усилие взаимно исключали друг друга. „Если с трудом, кто смог бы сделать хорошо?" (εί δε συν πόνω τις εύ πράσσοι)40a.
Совершенство, греческое άρετη, римское virtus всегда находили себе место в области публичного, где можно было превзойти других и от них отличиться. Все совершаемое публично может поэтому достичь совершенства, никогда не присущего никакой деятельности внутри приватного: превосходство характеризуется тем, что другие тут же налицо, и их присутствие требует специально для этой цели конституированного пространства, наряду с некой пространственно обставленной, создающей дистанцию формальностью; семейственно свойское окружение людей, принадлежащих к нашим, не только никогда не смогло бы убедительно подтвердить превосходство, но оказалось бы прямо-таки подорвано стремлением выделиться из всех[xli]. Хотя в социальности превосходство сильно обезличивается тем, что она приписывает его прогрессу человеческого рода, а уже не достижениям одиночек, все-таки даже и здесь не удалось целиком и полностью разрушить связь между публичным достижением и превосходством. Этим можно объяснить то, что труд, осуществляющийся в Новое время в публичной сфере, таким исключительным образом усовершенствовался, тогда как наши способности поступка и слова, в нашу эпоху вытесненные в сферу приватного и интимного, так явственно проиграли в качестве. На этот сдвиг, а именно на примечательный раскол между тем, чего мы достигаем в работе и создании, и тем, как потом мы в этом сработанном и созданном мире движемся, часто указывалось; тут обычно говорят о якобы отставании нашего общего человеческого развития от завоеваний естественной науки и техники, надеясь, что общественные науки сумеют в конце концов создать социальную технику — нечто вроде social engineering, — которая будет так же манипулировать обществом, ставя его под научный контроль, как науко-техника — природой. Совершенно отвлекаясь от упреков, достаточно часто выдвигавшихся против этой „надежды" чтобы здесь их можно было уже не упоминать, вся эта критика современной социальной ситуации замахивается только на посильное изменение образов человеческого поведения и лежащей в их основе „психологии", но не на изменение мира, в котором мы люди живем и движемся. И как раз эта исключительно психологическая интерпретация человеческой экзистенции, на которой покоятся общественные науки и для которой наличие или неналичие публичного пространства так же иррелевантно, как всякая другая мирская реальность, оказывается проблематичной перед лицом того факта, что никакое выдающееся достижение невозможно, если сам мир не предоставит ему места. Никакие мыслимые психологические свойства, которые можно было бы воспитать или внедрить, ни дарования, ни таланты не могут заменить то, что конституирует собою публичную сферу, делая ее пространством мира, где люди стремятся к отличию и совершенное может найти себе достойное его место.
7 Публичное пространство: общность
Слово ,публичный' означает два тесно друг с другом связанных, но все же никак не тождественных феномена.
Оно означает во-первых, что все являющееся перед всеобщностью для всякого видно и гласно, так что его сопровождает максимальная открытость. Что нечто вообще является и может быть воспринято и другими и нами самими как таковое, означает внутри человеческого мира принадлежность к действительности. В сравнении с реальностью, образующейся когда тебя слышат и видят, даже самые мощные силы нашей внутренней жизни — сердечные страсти, задушевные мысли, чувственные наслаждения — ведут какое-то неуверенное, тенеобразное существование, разве что, изменившись, как бы де-приватизируются и де-индивидуализируются и так преображаются, что находят адекватную для публичной явленности форму[xlii]. Подобные изменяющие преображения хорошо знакомы нам из нашего повседневного опыта, они происходят уже при простейшем рассказе какой-нибудь истории, и мы постоянно встречаем их в „неописуемых превращениях" (Рильке) индивидуальнейших переживаний, происходящих в творениях искусства. Однако не требуется даже искусства, чтобы привлечь внимание к феномену этих превращений. Как только мы начинаем хотя бы просто говорить о вещах, опыт которых развертывается в приватном и интимном, мы уже выдвигаем их в сферу, где они обретают действительность, которой прежде, с какой бы интенсивностью они нас ни задевали, они никогда не достигали. Предстояние других, которые видят, что мы видим, и слышат, что мы слышим, удостоверяет нам реальность мира и нас самих; и пусть вполне развившаяся интимность приватной внутренней жизни, которою мы обязаны Новому времени и упадку публичности, максимально расширила и обогатила диапазон субъективного чувствования и приватного ощущения, все же эта новая интенсивность могла состояться лишь за счет доверия к действительности мира и явившегося в нем человека.
Всего лучше это показать на примере того, как интенсивнейшее из нам известных ощущений, опыт сильной телесной боли, острота которой заглушает все другие чувства, оказывается в то же время приватнейшим из всех видов опыта; его просто уже не удается передать или преобразить так чтобы он стал доступен опыту. Однако боль не только пожалуй единственное ощущение, которое вообще не поддается отображению и потому в публичности никогда не может выступить как явление; она еще и лишает нас нашего чувства реальности в такой мере, что ничто другое не бывает нами забыто быстрее и легче, чем как раз несравнимая интенсивность, с какой она в истинней-шем смысле слова заполняла собою какой-то краткий или может быть более продолжительный отрезок нашей жизни. Похоже на то, как если бы не существовало никакого моста от радикальнейшей субъективности, в которой я „неузнаваем", к внешнему наличествованию мира и жизни[xliii]. Иными словами, боль, представляющая по сути дела „граничную ситуацию", потому что она так же уводит из мира людей, из inter homines esse, как кроме нее только смерть, оказывается „субъективным" ощущением, настолько далеким от „объективного" мира вещей, что не может уже даже выйти в явленность[xliv].
Поскольку наше чувство реальности полностью зависит от того, что имеют место явления и тем самым открытое публичное пространство, куда что-то может выступить из тьмы потаенного и утаиваемого, то и сама светотень, скудно озаряющая нашу интимную приватную жизнь, обязана своею светоносной силой ослепительно резкому свету, излучаемому публичностью. Но с другой стороны существует большое число вещей, которые не выдерживают блеска, каким постоянное присутствие других людей заливает публичное пространство, терпимое лишь к тому, что оно признает релевантным, достойным всеобщего разглядывания и выслушивания, так что все ирреле-вантное автоматически становится приватным делом. Это конечно не обязательно означает, что частные обстоятельства как таковые иррелевантны; мы увидим, наоборот, что есть весьма весомые вещи, которые вообще могут иметь место и развернуться только в приватном. Любовь к примеру, в отличие от дружбы, решительно не может пережить публичного выставления напоказ. („Коль сердце хочешь подарить, отдай его мне втайне"; „Never seek to tell thy love/Love that never told can be".) Ввиду заложенной в ней безмирности все попытки изменить или спасти мир любовью ощущаются нами как безнадежно ошибочные.
При этом то, что публичность рассматривает как ирреле-вантное, может стать настолько чарующим и волшебно манящим, что целый народ обратится к нему, найдет в нем форму своей жизни без того чтобы оно утратило свой сущностно приватный характер. Современная зачарованность „мелочами", которые ускользают „от упрощающего привычного взгляда", „то загадочное, бессловесное, безграничное очарование", которым дышит „никем не замечаемая заброшенность или прислоненность" — „садовая лейка, забытая в поле борона, собака на солнышке, убогий церковный двор, инвалид, бедная крестьянская хижина", — что все это может стать „сосудом откровения"[xlv], мы знаем если не сами по себе, то из европейской поэзии начала двадцатого века; но свое классическое осуществление как форма жизни это очарование нашло себе пожалуй только в том, что во Франции называют „le petit bonheur". Своеобразно чарующая нежность французской повседневности, одновременно милой и надежно-простонародной, возникла, когда распалась некогда великая и славная публичность этой нации и падение вынудило народ уйти в приватность, где он и показал свое мастерское умение в искусстве быть счастливым в четырех стенах, между постелью и гардеробом, столом и креслом, в окружении собаки, кошки и горшка с цветами. Царящая в этом тесном круге мягкая тщательность и предупредительная забота в мире, стремительная индустриализация которого, раздвигая место для нового производства, неумолимо разрушает еще вчера привычные вещи, вызывают такое впечатление, словно здесь скрывается бегством последняя, чисто человеческая способность радоваться миру вещей. Но это расширение приватного, это очарование, каким целый народ окружил свою повседневность, не создает публичного пространства, а наоборот означает лишь, что открытая публичность почти полностью исчезла из жизни народа, так что во всем правят прелесть и очарование, а не величие или значительность. Ибо чарующей публичность, которой пристало величие, быть никогда не может, и именно потому что ни для чего невесомого места не имеет.
Понятие публичного означает во-вторых самый мир, насколько он у нас общий и как таковой отличается от всего, что нам приватно принадлежит, т. е. от сферы, которую мы называем нашей частной собственностью. Этот общий мир однако никоим образом не тождествен земле или природе в целом, как они сопутствуют человеческому роду, очерчивая его жизненное пространство и обусловливая его органическую жизнь. Мир тут скорее создание человеческих рук и собирательное понятие для всего, что разыгрывается между людьми, что осязаемо выступает на передний план в этом созданном мире. Совместно жить в мире означает по существу, что некий мир вещей располагается между теми, для кого он общее место жительства, а именно в том же смысле, в каком скажем стол стоит между теми, кто сидит вокруг него; как всякое между, мир связывает и разделяет тех, кому он общ.
Публичное пространство, подобно общему нам миру, собирает людей и одновременно препятствует тому, чтобы мы так сказать спотыкались друг о друга. Что делает взаимоотношения в массовом обществе такими труднопереносимыми для всех участников, заключается по существу, во всяком случае прежде всего, не в самой по себе массовости; дело скорее в том что мир тут утратил свою силу собирания, т. е. разделения и связывания. Ситуация здесь приближается по своей жутковатости к спиритическому сеансу, на котором собравшаяся вокруг стола группа людей внезапно видит, что стол силою какой-то магии исчез из их среды, так что теперь два сидящих друг против друга лица ничем больше не разделены, но и ничем осязаемым больше не соединены.
Исторически засвидетельствован лишь один единственный принцип, который достаточно мощен, чтобы сплотить в единое общество людей, утративших интерес к общему им миру и потому уже не сдерживаемых вместе, ни отделенных друг от друга, ни связанных друг с другом. Отыскать такую связь, которая могла бы показать себя достаточно прочной чтобы служить заменой миру, было очевидно главной задачей христианской философии, когда еще молодая община впервые столкнулась с политическими задачами. В этой ситуации Августин предложил не только специфическое христианское „братство" и скрепленные им содружества, но все человеческие отношения понимать из любви к ближнему и на ней основывать. Это было конечно возможно лишь поскольку любовь к ближнему хотя и имеет в своей безмирности что-то общее с любовью, однако четко отличается от нее тем, что подобно миру, ею заменяемому, должна быть способна распространиться на всех людей и таким образом учредить некую лишь ей свойственную промежуточную область. „Даже разбойники имеют между собою (inter se) нечто, называемое ими любовью к ближнему"[xlvi]. Разбойничьи банды для иллюстрации христианнейшего политического принципа могут шокировать, однако при ближайшем рассмотрении быстро проясняется, насколько уместен этот выбор. По существу речь ведь идет о том, чтобы как-то провести группу принципиально безмирных людей через мир, а подобной группой разбойничья банда в каком-то смысле является ровно с тем же успехом что и собрание святых. Одни не ладят с миром потому что слишком плохи, другие потому что слишком хороши для него, или, говоря обобщеннее, потому что знают что мир предопределен к погибели. Ибо оговорка quamdiu mundus durat — „пока длится мир" — должна естественно оставаться явным условием всякой деятельности верующих христиан в этом мире[xlvii]. Неполитический, немирской характер общности христианских верующих выражался в раннем христианстве требованием чтобы община составляла единый corpus, „тело", члены которого состоят во взаимоотношениях братьев одной семьи[xlviii]. Братство всех христиан в раннюю эпоху следует понимать еще во вполне буквальном, неметафорическом смысле. Жизнь в общине структурно следовала жизни в семье и требования, ставившиеся перед этой жизнью, ориентировались на отношения, царившие в семье, причем именно потому что здесь дело шло о модели неполитического и даже антиполитического общежительства. Между членами одной семьи никогда не образовывалось пространство публичного мира, и потому было невероятно, чтобы таковое возникло в христианской общине, раз люди возвращались к структуре семьи, связи внутри которой покоятся на природной „любви", причем естественно подразумевалось, что при христианских предпосылках эта любовь как любовь к ближнему распространяется на всех членов христианской семьи. Как мы знаем из уставов и истории монашеских орденов (единственных сообществ, в которых любовь к ближнему была вообще испробована как принцип политического устроения), несмотря на все подобные меры предосторожности опасность того, что внутри самого же ордена сможет образоваться открытое публичное пространство, т. е. своего рода противомир, — а именно просто потому что вся деятельность монахов, даже когда осуществлялась лишь ради „необходимости земной жизни" (necessitas vitae praesentis)[xlix], проходила перед глазами сообщества, — была так велика, что приходилось вводить добавочные правила и предписания, чтобы поставить преграду превосходству и возникавшей из него гордости[l].
Безмирность может стать политическим феноменом только если идет от веры, что мир должен погибнуть; где господствует эта вера, там разумеется почти неизбежно чтобы безмирность в той или иной форме овладела политическим пространством Это произошло после падения Римской империи и, похоже, нечто подобное могло бы повториться в нашу собственную эпоху, хотя и по совершенно другим причинам, совсем другим образом и главное без утешений новой веры. Ибо христианская аскеза против благ этого мира никоим образом не единственное возможное следствие, какое может быть извлечено из веры, что мир, рукотворное создание человека, так же смертен как и его создатель. Подобная вера способна с равным успехом невероятно взвинтить потребление и расходование всех мирских вещей, интенсивируя все те формы обращения с вещами мира, в которых мир не является как κοινόν, как нечто общее всем. Лишь существование публичного пространства в мире и совершающееся в нем превращение объектов в вещный мир, собирающий и взаимно связующий людей, рассчитано на долгую длительность. Мир, в котором должно быть место для публичности, не может быть учрежден только для одного поколения и планироваться только для живущих; он должен превосходить долготу жизни смертных людей.
Без этого перехвата в посильное земное бессмертие не может по-серьезному быть ни политики, ни общего мира, ни публичности. Ибо мир общ не в том же смысле что и христианское общее благо, объединяющая всех христиан забота о спасении своей души; общее мира лежит вне нас самих, мы вступаем в него когда рождаемся и оставляем его когда умираем. Оно превосходит длительность нашей жизни в прошлое, равно как и в будущее. Оно было тут прежде чем были мы и переживет наше краткое пребывание в нем. Мир мы имеем сообща не только с теми кто с нами живет, но также и с теми кто был до нас и с теми кто придет после нас. Но такой мир способен пережить приход и уход поколений в нем только в той мере, в какой он публично открыт. В существе публичного заложено, что оно способно вобрать в себя, сберечь сквозь столетия и сохранить в сиянии то, что смертные ищут спасти от природной гибели времен. Что люди вообще отваживались на публичность в течение долгих столетий, собственно вплоть до новоевропейского прорыва, объясняется только тем что они хотели сделать что-то свое или общее более долговечным чем их земная жизнь. (Сегодня многим может показаться чудачеством, и потому пожалуй нужно о том напоминать, что проклятие рабства состояло не только в утрате свободы и сопровождающей ее видности, но также и в страхе, который охватывал этих живущих в темноте людей при мысли о том что после их ухода не останется никакого следа, свидетельства что они когда-то жили).[li]
Может быть, не найти более говорящего свидетельства отмирания публичной политической сферы в Новое время чем почти полное исчезновение настоящей заботы о бессмертии, что конечно отчасти отодвинуто в тень одновременным исчезновением метафизической заботы о вечности. Поскольку последняя по своей сути является делом философии с ее vita con-templativa, мы здесь оставим ее без рассмотрения. Но первое доказывается привычным перечислением стремления к бессмертию в ряду грехов тщеславия. В современных обстоятельствах, разумеется, настолько неправдоподобно, чтобы кто-то всерьез рвался к земному бессмертию, что пожалуй оправданно отбрасывать подобные претензии как тщеславие. Не следует только при этом забывать, что знаменитый тезис Аристотеля, что при рассмотрении человеческих дел не надо застревать на человеческом только потому что ты человек и на смертном только потому что ты смертный, но напротив надо посмотреть, насколько человечески-смертное способно к бессмертию, закономерно включен как раз в одно из его политических сочинений[lii]. Ибо полис был для греков — как и res publica для римлян — прежде всего защитой от тщетности и ускользания жизни одиночки, а именно пространством, которое защищено от всего преходящего и отдано относительно долговечному, а стало быть прямо предназначено для того чтобы обеспечивать бессмертие смертному человеку.
Какое мнение Новое время после ошеломляющего восхождения социума в публичность составило себе об этом политически открытом пространстве, с обезоруживающей откровенностью занес на бумагу Адам Смит; он пишет об этом „роде) обездоленных (that unprosperous race of men), которых обычно именуют свободными профессиями", у кого „восхищение публики... всегда составляет часть их вознаграждения, ...ощутимую часть... уже у врачей, пожалуй еще большую у юристов и почти все целиком у тех, кто предался поэтическому искусству и философии"[liii]. Для Адама Смита само собой разумеется, что публичное уважение и денежное вознаграждение стоят на одной ступени и потому взаимозаменимы. Публичное уважение тоже можно употреблять и потреблять, а социальное положение — „статус", как говорят в Америке, — удовлетворяет род потребности, как еда удовлетворяет нужду при голоде; индивидуальное тщеславие требует публичного подкрепления, как индивидуальный желудок — продуктов питания. С этой точки зрения действительность конечно заявляет о себе не присутствием других, приобщенных в публичности к тому же опыту что и мы, но единственно зависит от остроты субъективной потребности, о существовании или несуществовании которой никто ведь не может дать сведений кроме того, кто ее напрямую чувствует или испытывает. И поскольку потребность в пище бесспорно соответствует биологическому процессу жизни, чисто субъективный фон должен естественно считаться более „реальным" и правомерным чем „суетное тщеславие", vainglory, как Гоббс обычно презрительно называет потребность в публичном признании. Но даже если бы эти потребности каким-то чудом вчувствования могли ощущаться также и другими, все равно их летучесть говорила бы пока против того что из них может возникнуть нечто сравнимое по устойчивости и солидности с общим миром. Дело здесь поэтому вовсе не в том что современный мир скажем не платит достаточного признания поэзии и философии, а в том что и его восхищение тоже не в состоянии конституировать пространство, в котором известные вещи могут быть спасены от разрушительного времени. В нашем мире, наоборот, летучесть публичного признания, каждодневно производимого и потребляемого во все возрастающей мере, так велика, что в сравнении с ней даже деньги, принадлежащие все-таки к самым преходящим вещам, какие вообще существуют, кажутся „объективными" и действительными.
В отличие от этой „объективности", имеющей для себя единственным основанием деньги как общий знаменатель для удовлетворения любых потребностей, действительность публичного пространства возникает из одновременного присутствия бесчисленных аспектов и перспектив, в которых предстает общее и для которых никогда не может существовать усредненного масштаба или общего знаменателя. Ибо хотя общий мир предоставляет общее для всех место собрания, однако все сходящиеся в нем каждый раз занимают тут разные позиции и местоположение одного так же не может совпасть с местоположением другого, как и местоположение двух предметов. Увиденность и услышанность другими получает свою значимость от того факта, что каждый смотрит и слушает с какой-то другой позиции. Это как раз и есть смысл публичного сосуществования, в сравнении с которым самая богатая и удовлетворяющая семейная жизнь может предложить лишь распространение и размножение собственной позиции и присущих ей аспектов и перспектив. Субъективность приватного может быть семьей чрезвычайно заострена и умножена, она может стать настолько сильной, что ее вес даст себя почувствовать и в публичном; но этот семейный „мир" все-таки никогда не сможет заместить действительность, возникающую из совокупной суммы аспектов, какие предмет в своей идентичности предлагает некоему множеству наблюдателей. Лишь там где вещи, не утрачивая своей идентичности, увидены многими в некой множественности перспектив, так что собравшиеся вокруг них знают, что одно и то же предстает им в предельном различии, действительность мира может по существу и надежно выступить в явление.
Таким образом реальность при условии единого общего мира гарантирована не некой общечеловеческой „природой", но возникает наоборот оттого, что невзирая на все различия позиций и вытекающую отсюда множественность аспектов очевидно все же, что все заняты одним и тем же делом. Если это тожество дела распадается и становится уже неощутимо, то никакая одинаковость „человеческой природы" и уж подавно никакой искусственный конформизм массового общества не помешают распаду общего мира на осколки; крушение тут как раз большей частью и происходит именно через нивелирование множественности, в какой то же самое внутри человеческой плюральности показывает и поддерживает свою тожественность. Такие катастрофические крушения известны нам в истории из эпох насильственных властителей, которые столь радикально изолируют подданных друг от друга, что никто уже не может сойтись и договориться с другим. Однако подобное происходит также и в массовых обществах и в ситуации массовых истерий, когда все вдруг начинают вести себя так, словно они члены громадной единодушной внутри себя семьи, и где истерия возникает из-за того что какой-то один аспект гигантски раздувается. В обоих случаях мы имеем дело с радикальными феноменами приватизации, т. е. с состояниями, в которых никто уже не может видеть и слышать другого или быть увиденным и услышанным. Каждый загнан теперь в свою субъективность как в изолятор, и эта субъективность не становится менее субъективной, а полученный в ней опыт — менее уникальным оттого, что кажется размноженным до бесконечности. Общий мир исчезает, когда его видят уже только в одном аспекте; он вообще существует только в многообразии своих перспектив.
8 Приватная сфера: собственность и владение
С этими многосложными значениями публичного пространства соотнесено в его исходно привативном смысле понятие приватного. Вести исключительно приватную жизнь значит в первую голову жить в состоянии, когда человек лишен определенных сущностно человеческих вещей. А именно лишен действительности, возникающей оттого что тебя видят и слышат, лишен „объективного", т. е. предметного отношения к другим, которое может сложиться только там где люди через опосредование общего вещественного мира отделены от других и вместе с тем связаны с ними, лишены наконец возможности достичь чего-то более устойчивого чем жизнь. Привативный характер приватного лежит в отсутствии других; в том, что касается этих других, приватный человек не выступает в явленность, словно как если бы его вообще не было. Все, что он делает или упускает, остается лишено значения, не имеет последствий, и что его задевает, не касается больше никого.
В новоевропейском мире эта лишенность и присущая ей утрата реальности привели к той покинутости, которая мало-помалу стала массовым феноменом, демонстрирующим ущербность человеческих взаимоотношений в ее предельнейшей и бесчеловечнейшей форме[liv]. Причина, почему дело дошло до такой крайности, заключается конечно в том, что массовое общество разрушает не только публичное пространство, но и приватную сферу, т. е. не только лишает людей их места в мире, но отнимает у них также защиту их собственных четырех стен, в которых они некогда чувствовали себя укрытыми от мира и где во всяком случае также и те, кого исключила публичность, могли найти эрзац действительности в теплоте своего домашнего очага внутри границ семьи. Полным развитием семейной жизни у домашнего очага до особого внутреннего пространства со своим самостоятельным правом и самостоятельными законами мы обязаны исключительному чутью римского народа к сфере политического; ибо римляне в отличие от греков никогда не жертвовали приватным публичному, понимая что эти две области в своем существовании зависят друг от друга. И хотя фактические условия жизни рабов в Афинах были едва ли хуже чем в Риме, все же характерным образом именно римский автор высказал мысль, согласно которой для рабов хозяйство господина то же самое что res publica для гражданина[lv]. Сколь бы однако терпимой ни была приватная жизнь внутри семьи, она все же никогда не могла быть более чем эрзацем; лишенность все равно оставалась, даже если в Риме, как и в Афинах, приватная сфера предлагала достаточно места для видов деятельности, которые мы сегодня были бы склонны ценить выше чем политические, — как скажем жизнь накопителя богатств в Греции или занятия искусством и наукой в Риме. Этот „либеральный" подход, позволявший при особо благоприятных обстоятельствах рабам достичь большого благосостояния и высокой образованности, лишь свидетельствовал, что богатство внутри греческого полиса не пользовалось всеобщим уважением и что в римской республике быть философом не много что значило[lvi].
Чутье к тому, что жизнь, вся проводимая в узости семьи, дома, хозяйства, лишена сущностных человеческих возможностей, уже в последние века Римской империи становилось все слабее, чтобы потом благодаря христианству совершенно угаснуть. Христианская мораль, не обязательно тождественная с основополагающими христианскими религиозными учениями, всегда подчеркивала что надо заботиться только о самом себе, что политическая ответственность бремя и что тяготы политического можно взваливать на себя исключительно лишь ради любви к ближнему, именно для того чтобы избавить верующих, озабоченных спасением души, от хлопот вокруг общественных дел[lvii]. Поразительно, что это отношение к политическому пережило новоевропейскую секуляризацию, причем в такой мере, что Маркс — в этом аспекте, как и во многих других, лишь концептуально оформивший и программно высказавший предпосылки, еще имплицитные, Нового времени, — в конечном счете не только предсказывал, но и надеялся на отмирание всего публичного пространства. Глядя со стороны политического, различие между христианством и социализмом незначительно, поскольку состоит в разной оценке не публичности и мира, а только человеческой природы, чья греховность в одном случае велит рассматривать государство как необходимое зло на кратком протяжении земной жизни, а в другом случае появляется надежда отделаться от государства уже на земле. Кроме того, свое пророчество об отмирании государства Маркс почерпал из факта, едва ли им осознанного, что публичное пространство и так уже отмирает или может быть вытесняется в узкую сферу государственного аппарата; прогрессирующее отмирание государственного и правительственного аппарата началось уже в Марксову эпоху, поскольку управление само все больше понималось как распространившееся на всю страну хозяйствование, так что наконец в нашем столетии и государственный аппарат тоже созревает до того чтобы раствориться в еще более ограниченном и совершенно безличном административном аппарате.
Похоже, в самом существе царящих между приватным и публичным отношений заложено, что отмирание публичности в ее конечных стадиях сопровождается радикальной угрозой приватному. Насколько эти темы вообще анализировались в Новое время, дискуссия всегда касалась вопроса о частной собственности; и это не случайность, потому что даже для античной политической мысли слово ,приватный' утрачивает свой привативный характер и не обязательно уже служит антонимом к публичности, если выступает в связи с собственностью, именно как частная собственность. Очевидным образом собственность обладает известными свойствами, которые, хотя они и приватной природы, тем не менее крайне существенны для политического.
Новоевропейское, для нас само собой разумеющееся приравнивание собственности к владению и богатству, а отсутствия собственности к нищете и беде, затрудняет действительное понимание единственной позитивной связи публичного с приватным, как она дает о себе знать в обязанности государства охранять приватную собственность. Новоевропейское отождествление собственности с владением тем более все запутывает, что не только собственность, но владение и богатство исторически тоже всегда играли в политическом более важную роль чем любой другой лишь приватный запрос или интерес. Вплоть до конца девятнадцатого века, как известно, владение имуществом и состоятельность были обязательным условием для допуска в политическое пространство и пользования полнотой гражданских прав. Отсюда недалеко до непонимания разницы между собственностью и владением, соотв. богатством, которые не только не одно и то же, но имеют совершенно разную природу. Впрочем, именно в сегодняшнем обществе становится слишком уж ясно, как мало эти вещи должны иметь между собой общего, а именно, как необычайное возрастание богатства общества может вполне совпадать с исчезновением частной собственности, когда индивид владеет не более чем долей, перепадающей ему от растущего национального дохода.
В борьбе между капитализмом и социализмом большей частью забывают, что именно капитализм начал с отмены собственности и что социализм в этом аспекте лишь следует закону, по которому пошло все хозяйственное развитие Нового времени. До лишения низших слоев населения собственности к началу Нового времени святость частной собственности всегда само собой разумелась; но лишь невероятное возрастание владения, богатства и как раз капитала в руках слоев, лишавших собственности, привело вообще к провозглашению владения святыней. Собственность была первоначально привязана к одному определенному месту в мире и как таковая не только „недвижима", но даже тождественна с семьей, занимавшей это место[lviii]. Поэтому еще и в Средневековье изгнание могло повлечь за собой уничтожение, а не просто конфискацию имущества[lix]. Не иметь никакой собственности значило не иметь родового места в мире, которое называлось бы своим собственным, т. е. быть кем-то, кто миром и организованным в нем политическим организмом не предусмотрен. Это был естественно случай пришлых чужеземцев и рабов, у кого никакие владения и богатства не могли заменить отсутствующую собственность[lx], равно как и наоборот бедность не могла лишить человека гражданских прав и принадлежности к политическому организму, пока его собственность, родовое место в мире, оставалась в целости. С утратой этой собственности опять же в древнейшее время было связано и лишение защиты закона[lxi]. Сама собственность была со своей стороны чем-то больше чем местом обитания; она в качестве приватной предоставляла место, где могло совершаться то, что по своей сути было тайным, и ее неприкосновенность состояла потому в теснейшей связи со святостью рождения и смерти, с сокровенным началом и сокрытым концом смертных, приходящих как все живое из темноты и возвращающихся во тьму подземного царства[lxii]. Как такое место потаенности, где под родным кровом люди находят защиту от света публичности, появляются на свет и умирают, но не проводят жизнь, где стало быть происходит то, во что никакой человеческий глаз и никакое человеческое знание не проникают[lxiii], как место рождения и смерти сфера домохозяйства и собственности была „приватной" не в привативном смысле. Ее неприкасаемая потаенность от публичного и от общего всем мира отвечала тому отрезвляющему обстоятельству, что человек не знает, откуда он приходит когда рождается и куда уходит умирая. Таинство начала и конца смертной жизни может быть сохранено лишь там, куда блеск публичности не достигает.
Так что политическое значение имели не недра этой области, чья тайна публичносги не касается, но лишь ее внешний образ, а именно то, что должно быть учреждено вовне для сбережения интимного. В свете публичного приватное выступает как ограниченное и огражденное и обязанность публичной, общей сферы в том, чтобы сохранить эти ограды и границы, отделяющие собственность и собственнейшее гражданина от собственности соседа, обеспечивая ему обособленность. То, что мы сегодня именуем законом, означало по меньшей мере у греков исходно нечто вроде границы[lxiv], которая в более ранние времена была зримым граничным пространством, родом ничейной земли[lxv], замыкавшей и ограждавшей всякого, кто вообще был кем-то. Правда, закон полиса ушел намного дальше этих прадревних представлений, но даже и ему еще явственно присуще какое-то пространственное значение. Ибо закон греческого города-государства не был ни содержанием, ни результатом политического акта (что политическая деятельность в первую очередь есть законодательство, пошло от римлян и стало затем существенно новоевропейским представлением, нашедшим себе самое весомое выражение в политической философии Канта); не представлял он собой и перечня запретов в смысле современных законов, которые все покоятся еще на „ты не должен" десяти заповедей. Греческий закон был действительно „стеной закона" и создавал как таковой пространство полиса; без этой стены мог стоять город в смысле скопления домов для совместной жизни людей (άστυ), но только не город-государство как политическая общность[lxvi]. Стена закона была священна, однако не она сама, но только то, что она ограждала, становилось собственно политическим. Воздвигание закона было до-политической задачей; но лишь после ее выполнения конституировалось собственно политическое, а именно самый полис[lxvii]. Без стен закона публичное пространство так же не могло существовать, как участок недвижимости без окружающего его забора; первые ограждали и оберегали политическую жизнь города, подобно тому как второй скрывал и охранял „приватную" жизнь его обитателей.
Поэтому недостаточно сказать, что приватная собственность до начала Нового времени была само собой разумеющимся условием для пользования гражданскими правами; дело шло тут о чем-то гораздо большем. Темное, сокровенное пространство приватного образовывало как бы другую сторону публичного, и при том что было конечно возможно проводить свою жизнь вне всякой публичности, пусть это и означало лишение себя высших человеческих возможностей, но было невозможно не иметь собственности, свои собственные четыре стены; потому жизнь раба, который вполне мог иметь богатства, но не собственность, считалась недостойной человека, нечеловеческой жизнью.
Совсем другого и намного более позднего исторического происхождения политическое значение приватного владения или богатства, источника средств для поддержания жизни своей и семьи. Мы уже упоминали античное приравнивание небходимости к приватной сфере хозяйства, т. е. сфере, в которой человек как-то справлялся с жизненными нуждами. И свободный человек, владевший приватной собственностью и не принадлежавший подобно рабам чужому господину, тоже мог оказаться загнан нуждой в нищету и даже принужден вести себя как раб[lxviii]. Так благосостояние или богатство стало условием участия в публичной жизни, но не потому что его обладатель был занят наращиванием богатства, но наоборот, потому что можно было отчасти положиться на то, что средствами жизни богатый человек обеспечен, усилий это от него не требует и потому он свободен для общественных дел[lxix]. Ведь само собой разумеется, что публичная деятельность только тогда возможна, когда позаботились о гораздо более жгучих жизненных нуждах. Это опять же могло быть достигнуто лишь трудом, и богатство человека часто измерялось поэтому числом работников, т. е., понятное дело, имуществом в виде рабов[lxx]. Приватное владение означало здесь, что человек справился со своими собственными жизненными нуждами и потому потенциально свободен, а именно свободен трансцендировать собственную жизнь и вступить в мир для всех общий.
Лишь когда такой общий мир осязаемо-реально налицо, т. е. лишь после учреждения полиса этот род приватного владения, гарантирующий не столько место в мире, сколько свободу от необходимостей поддержания жизни, смог приобрести столь исключительное политическое значение. Потому почти что само собой разумеется, что в гомеровском мире знаменитой греческой низкой оценки ручного труда мы еще не находим. Презрение к приобретательству тоже более позднего происхождения и тесно связано с презрением к труду. Если кто-то, имевший достаточно чтобы обеспечить поддержание собственной жизни, решал увеличить свое имущество вместо того чтобы его расходовать или тратить на него ровно столько заботы, сколько необходимо для его поддержания, то значит он добровольно отрекся от своей свободы и унизил себя до положения, в каком рабы и нищие оказывались под давлением обстоятельств, — до участи раба необходимости[lxxi].
Это владение к тому же вплоть до начала Нового времени никогда не расценивалось как святыня. Лишь когда богатство как источник поддержания жизни совпадало с участком земли, с которого и на котором жила семья, т. е. стало быть в обществе, занятом в основном земледелием, собственность и владение могли так неразрывно переходить друг в друга, что становились одним и тем же, а тогда это естественно означало, что имущество оказывалось таким же священным как собственность. Внутри феодального общественного порядка это в какой-то ограниченной мере могло быть и справедливо. Но новоевропейские защитники приватной собственности, никогда не понимающие под нею ничего другого как приватное владение и приватное богатство, не имеют большого основания апеллировать к этой традиции, для которой действительно не могло существовать никакой публичной свободы без гарантии приватной собственности и никакой политической деятельности без приватного владения. Ибо для Нового времени дело идет тут в первую очередь о свободе приобретения, которое в той традиции считалась кабалой, о защите накапливаемого капитала, а не о защите приватной собственности. Скорее, процесс накопления капитала в современном обществе вообще лишь потому пошел в ход, что перестали уделять внимание собственности; у его истоков стоят чудовищные экспроприации — отнятие собственности у крестьян, явившееся в свою очередь почти автоматическим побочным эффектом экспроприации церковного и монастырского имущества после реформации[lxxii]; на приватную собственность этот процесс никогда не обращал внимания, она всегда и повсюду экспроприировалась, когда вступала в конфликт с накоплением капитала. Изречение Прудона, что собственность есть кража, содержит в себе истину, справедливую в отношении истоков капитализма; только не собственность стала кражей, а капитал в современном обществе возник из кражи собственности. Тем характернее, что даже Прудон колебался в требовании всеобщей экспроприации; он слишком хорошо знал, что полная отмена приватной собственности хотя и сможет пожалуй излечить зло нищеты, но зато накличет по всей вероятности еще худшее зло тирании[lxxiii]. Поскольку ему не удалось провести различения между собственностью и имуществом, в каком-то аспекте может пожалуй показаться, что в этих своих двух воззрениях он впадает в противоречие сам с собой, что в действительности не так. В конечном счете процесс аккумуляции социума, делающегося все богаче, захлестывает все формы приватной собственности, для этого он теперь поистине не нуждается в какой-то специальной экспроприации средств производства. Ибо в существе этого социума заложено, что приватное в любой своей форме может только стоять на пути развития общественных производительных сил, и перед этим фактом, который вовсе не изобретение Маркса, меркнут все рассуждения о приватной собственности, которая должна уступить место все более растущему общественному богатству[lxxiv].
9 Общественное и частное
Захоти кто исторически датировать возникновение социума, он должен будет остановиться на моменте, когда приватное имущество перестает быть частной заботой и начинает становиться общественным интересом. Социум возник в сфере публичного впервые в образе организации владельцев, которые однако теперь уже не на основании своего богатства требовали себе соразмерного права голоса в публичных вопросах, но наоборот сошлись чтобы в целях приобретения еще большего богатства потребовать снятия с себя всякой ответственности публично-политической природы. Правление, словами Боде-на, было дело королей, а владение имуществом — дело подданных; долг королей был править так, чтобы имущественные интересы подданных признавались и охранялись; речь шла не о желании имущих взять на себя правление, но о том чтобы правление, какое оно есть, правило в интересах имущих классов. „The commonwealth largely existed for the common wealth"[lxxv].
Если подумать, насколько более преходящи мирские владения чем сам мир, то все-таки поражает, что этому владению, добывание которого происходило еще в рамках приватной хозяйственной сферы, в один прекрасный день удалось не только овладеть публичным пространством, но и подорвать постоянство и устойчивость мира. Правда, приватное владение тоже может возрасти в такой мере, что длительности человеческой жизни уже недостаточно чтобы его употребить, но этим ничего в приватном существе богатства не меняется; отсюда следует только, что его владелец отныне уже не индивид, а целая семья в цепи поколений. По меркам всеобщего мира удлиненная продолжительность жизни этой приватности мизерна, во всяком случае пока владельцы не имеют в голове ничего другого кроме употребления и расходования своего богатства. Лишь когда деньги стали капиталом, т. е. приобретенное стали применять для еще большего приобретения, оно смогло как бы вырваться из приватной сферы, чтобы отныне почти что тягаться в простой долговечности с миром и с его осиливающим гибель постоянством[lxxvi]. Однако это сравнение обманывает; ибо в то время как постоянство мира обязано стабильности структур, собственная функция которых — противостоять процессам, то богатство и владение способны продержаться лишь когда они становятся „подвижными", стало быть приобретают форму процесса. Без процесса накопления, в каком богатство постепенно превращается в капитал и движение капитала, владение подпадает противонаправленному процессу более или менее скорой дезинтеграции через применение и потребление. Заморозить этот процесс исчезновения невозможно, он естественное следствие того что не мир, а человек чем-то владеет, владение же вообще возникает лишь тем путем, что процесс человеческой жизни овладевает некой предметностью, которую по своему существу может лишь потреблять и поглощать. Превращение этого процесса в его противоположность — подлинное „чудо" капиталистического хозяйства; осуществлено это чудо могло быть лишь потому что владение из приватного обстоятельства превратилось в публичное дело.
Владение подчинило своей власти публичность в форме интереса имущих классов. Этот интерес, заинтересованность, мы сегодня сказали бы, в свободном развитии хозяйства — экономика свободна от вторжения политического, хозяева свободны от тягостных забот публичных дел — сам по себе имеет однако еще приватную природу, все равно какое количество людей его разделяют. Интерес, общий у всех владельцев, не создал никакой общности, но лишь распространил конкурентную борьбу, в которой каждый хотел одного и того же, на публичную сферу. Общим у конкурентов был не интерес, а государство, призванное защитить частных владельцев в их борьбе за прибыль друг от друга. Причем явное противоречие современных концепций государства, заключающееся в том что общепубличное должно якобы органично вырастать из обособленно-частного, соотв. частное „диалектически" превращаться в общественное, не должно уже приводить нас в замешательство, как оно приводило еще Маркса. Внутри новоевропейских сдвигов мы находим старую противоположность между приватным и публичным сперва как противоречие, однако противоречие есть кажущийся, соотв. временный феномен этого сдвига. Противоречие разрешается интересом общества как целого, впервые громко заявляющим о себе конечно тогда, когда социуму удается поглотить как все приватное так и все публичное, причем не надо забывать что это поглощение происходит в форме процесса, в равной мере и охватившего всю предметность общего мира и вторгающегося в пространственную ограниченность приватной сферы. Опять же нам сейчас легче понять, какие последствия для человеческой экзистенции имеет исчезновение как публичной, так и частной сферы жизни, — публичной, поскольку она стала функцией частной, а частной, поскольку она теперь единственная всем общая забота.
С этой точки зрения новоевропейское открытие интимности предстает бегством от овладевшего всем внешним миром социума в субъективность душевности, где только и можно сберечь и утаить то, что прежде было естественно хранимо надежностью собственных четырех стен и ограждено от глаз толпы. Каким образом приватное пространство растворяется в социальном процессе, всего проще наблюдать по превращению недвижимой собственности в подвижное владение, так что сегодня различие между собственностью и имуществом — приблизительно соответствующее различению между fungibiles и соп-sumptibiles в римском праве — теряет свой смысл, потому что всякая осязаемая, „функционирующая" вещь стала предметом „консумпции". Что касается самой вещи, то она утратила свою приватную „употребительную ценность", неотделимую от места, в котором находится эта употребляемая вещь, и вместо нее приобрела социальную ценность, ориентированную на возможность обмена вещи; эти обменные ценности текучи в зависимости от социальных процессов и вообще поддаются определению лишь поскольку все ценности опять же поддаются редукции к общему денежному знаменателю[lxxvii]. Это жутковатое развеществление предметного мира было до деталей предвосхищено и „объяснено" теориями собственности и имущества в семнадцатом веке, когда они происхождение всякой собственности приписали человеку, первособственности, какую человек имеет в своем теле, и обитающей в нем духовной силе, короче, тому, что Маркс потом назвал „рабочей силой".
Для нас решающе то, что собственность в Новое время утратила свой пространственный, а имущество — свой мирно-вещественный характер; что они были сведены к человеку или же по своему происхождению приписаны тому, что человек именует своим собственным, вплоть до невозможности утратить это иначе как лишь вместе с жизнью. В историческом аспекте тезис Локка, что исток всякой собственности лежит в труде, более чем сомнителен; несомненно однако, что этот тезис вполне оправдался, поскольку мы давно ведь уже живем в условиях, когда только умения и рабочая сила, принадлежащие нам как сама наша жизнь, являются надежным владением. Локк выставил свой тезис чтобы защитить приватную собственность от покушений и думал что нашел непоколебимое основание ее прав, когда указал на то, что остается у самых нищих когда у них отнимают собственность; рабочая сила, какая у них тогда еще остается, поистине является „собственностью" лишь в метафорическом смысле. Что Локк мог настолько всерьез брать свою собственную метафору, не запутываясь в нелепостях, коренилось уже разумеется в том, что социум дал развиться новому богатству и владению, вовсе не обязательно вступавшему в противоречие с прогрессирующим лишением его членов собственности. Новейшие сдвиги привели скорее к обратному: общественное богатство, став заботой публичности, принимает такой размах что автоматически взрывает формы как частной собственности, так и частного владения. Публичность словно мстит за себя тем, кто хотел использовать ее для частных целей и частных интересов. Собственно угрожающе в этом сдвиге однако не упразднение частного владения, которое и без того не удержать даже в странах с якобы капиталистическим хозяйством, а упразднение частной собственности, т. е. экспроприация, отделяющая человека от всегда ограниченной, но зато осязаемой и управляемой частички мира, которую он называет своей собственной, потому что она служит только тому, что ему свое.
Опасность, которую эта действительная экспроприация, а именно исчезновение области приватного, таит в себе для человека вообще, бросается в глаза когда мы обращаем внимание на специфические непривативные черты приватного, более древние чем открытие интимного и ничего общего с ним не имеющие. Разница между тем, что нам обще, и тем, что нам свое, есть прежде всего разница в настоятельности; ни в какой части общего мира нам не бывает такая настоятельная и неотложная нужда, как в малой частице этого мира, служащей нам для каждодневного применения и употребления. Без собственности, как говорит Локк, мы не знаем и как подступиться к общему, оно „of no use"[lxxviii]. Жизненные нужды, с точки зрения публичности негативные и равнозначные урезыванию свободы, обладают настоятельностью, не имеющей ничего равного себе по силе среди импульсов, заставлящих нас стремиться к так называемым высшим целям. Поэтому всё принадлежащее к сфере жизненной необходимости не только будет среди человеческих забот и нужд всегда занимать первое место, но останется и единственным действенным средством против апатии и увядания инициативы, столь очевидных опасностей богатства[lxxix]. Необходимость и жизнь так тесно связаны между собой и так разнообразно друг с другом соотнесены, что с исчезновением необходимости жизнь в своей жизненности тоже грозит исчезнуть. К тому же свобода никоим образом не есть как бы автоматический результат исчезновения необходимости; где натиск необходимого ослабевает, там просто стирается лишь разница между свободой и необходимостью. (Современные споры о свободе, в которых свобода выступает никогда не как объективно устанавливаемый вид и способ человеческой экзистенции, но либо как неразрешимая проблема субъективности, а именно воли, колеблющейся как на качелях между абсолютной обусловленностью и абсолютной безусловностью, либо как знаменитая свобода необходимости, при которой результат необходимости есть свобода, характеризуются как раз тем, что их участники уже не в состоянии хотя бы просто заметить объективно осязаемую разницу между быть-свободным и быть-под-властью-необходимости.)
Вторая, сущностно не-привативная отличительная черта приватного касается его потаенности, того, что свои четыре стены оказываются единственным местом, куда мы можем уйти от мира, не только от того, что в нем постоянно происходит, но от его публичности, от увиденности и услышанности им. Всем нам известна своеобразная поверхностность, какую неотвратимо несет с собой проводимая лишь в публичности жизнь. Именно поскольку она постоянно насквозь просматриваема, она теряет способность восходить из темной подпочвы к яркости мира; она расстается с сумерками и потаенностью, в каком-то вполне реальном, не-субъективном смысле дарящими жизни свою всегда различную глубину. Единственно эффективный способ обеспечить непроглядность того, что должно остаться утаено от света публичности, это приватная собственность, место, куда никто не имеет доступа и где человек одновременно укрыт и сокрыт[lxxx].
Само собой разумеется, не-привативные черты приватного всего отчетливее вырисовываются в сознании тогда, когда есть опасность его утраты; но забота, всеми политическими общностями до Нового времени посвящавшаяся поддержанию собственности, все же явственно показывает, как остро сознавались также и позитивные черты приватного. Только конечно эти старания никогда не доходили до того чтобы впрямую защищать все само собой совершавшееся внутри приватной сферы; они были направлены скорее на линии границ, отделявшие участок собственности от собственности других, равно как и от общего всем мира. Характерным образом в новоевропейских политических или экономических теориях, насколько они защищают частную собственность, мы находим прежде всего определение видов деятельности, к которым обязываются люди в их качестве частных лиц и для которых они нуждаются в государственной защите, а именно главным образом к деятельности ради заработка, способствующей процессу социального накопления, в свою очередь подрывающему основания и хранительные стены приватной собственности. Для публичности значим однако не более или менее развитый „дух инициативы" частных предпринимателей, а изгороди, окружающие дома и сады граждан. Прямая экспроприация публичной рукой хотя и очень действенное средство ускорить „социализацию человека" (Маркс) и внедрение социума в частную сферу, но это не единственный путь к социализации всех человеческих интересов. Здесь, как и в других аспектах, кажущиеся революционными мероприятия социалистических и коммунистических правительств очень прекрасно могут быть заменены более медлительным, „более человечным", но не менее уверенным процессом постепенного „отмирания" приватного вообще и собственности в частности.
Разница между приватной и публичной сферами сводится в конечном счете к разнице между вещами, предназначенными для публичности, и теми, для которых нужна потаенность. Впервые в Новое время в его бунте против социума было открыто, каким необычайно богатым и многосложным может быть царство потаенности, когда оно полностью раскрылось и развернулось в интимности. Остается однако заметить, что в каком-то совершенно элементарном и принципиальном аспекте наше ощущение приватного ничем не отличается от того, какое имело хождение ранее, насколько мы вообще можем оглянуться в истории назад, а оно сводится к тому, что все телесные функции „приватны" и должны осуществляться в потаенности, — все то, к чему непосредственно принуждает жизненный процесс; разве что до новоевропейских столетий под таким принуждением понимались вообще все деятельности, служащие жизнеобеспечению индивида и сохранению рода. Это причина, почему рабочие, „своим телом обслуживающие [телесные жизненные] потребности"[lxxxi], и женщины, которые тоже прямо своим телом обеспечивают физическое продолжение рода, содержатся взаперти. Женщины и рабы шли по одной статье, вместе они образовывали семейство, вместе держались в потаенности, но не просто потому что были собственностью, а потому что их жизнь была „трудовой", определяющейся и вынуждаемой функциями тела[lxxxii]. Эти прадревние обстоятельства дают о себе знать еще и в современном обществе, когда оно следует римскому обычаю и называет рабочий класс „пролетариями", словом, которое исходно значило „производители детей" (рго-letarii) и обозначало тех людей в Риме, которые не были там местными жителями, т. е. неимущий класс, чья функция была как бы производить детей и поддерживать жизнь своим трудом. Когда к началу Нового времени на свободном рынке появился освободившийся труд, выпущенный из сферы и из-под защиты домохозяйства, эти „свободные" рабочие были отделены от общества, как бы спрятаны от него и содержались как преступники в стенах под постоянным присмотром[lxxxiii]. Работа подобно тесно связанной с нею бедности в ранний период новоевропейской истории, когда становление социума уже лишило ее естественной защиты, а публичное пространство еще не было готово для де-приватизации приватного, считалась как известно чем-то вроде преступления; за обоими тянулся еще стыд того рода, с каким и мы тоже скрываем от любых взглядов наши телесные функции, и их внезапное появление на виду вызывало в каждом, кто „еще знал, что пристойно и что нет", чувство возмущения. Тот факт, что Новое время эмансипировало рабочих и женщин почти в один и тот же исторический момент, идет не только на счет отказа от предрассудков, но теснейшим образом связан с тем что современный социум вынес на свет публичности из их древней многотысячелетней затаенности виды деятельности и функции, связанные с жизненными необходимостями. Тем характернее для существа этого феномена, что немногие остатки того, что и в нашем обществе тоже обязательно надо скрывать, относятся к принудительным необходимостям, исходящим из природы самого тела.
10 Локализация деятельностей
Хотя различение между приватным и публичным до известной степени совпадает с такими парами противоположностей как необходимость и свобода, быстротечность и постоянство, наконец стыд и честь, отсюда все же никак не следует что только необходимое, быстротечное, постыдное принадлежат к сфере приватного. В своем элементарнейшем смысле эти две сферы означают, что есть вещи, имеющие право на потаенность, и есть другие, способные развернуться лишь когда выставлены на публичное обозрение. Если осмыслить эти феномены пока еще даже не задумываясь о том, в каком месте мы конкретно можем встретить их в той или иной цивилизации, то быстро обнаружится что всякой человеческой деятельности по-видимому присуще нечто указывающее на то, что она не парит как бы в воздухе, а имеет принадлежащее ей место в мире. Это во всяком случае касается главных видов деятельности, на которые расчленяется vita activa, — труд (работа), создание (изготовление) и действие (поступок). Чтобы однако ясно осмыслить этот примечательный феномен присущей всем деятельностям локализации, хорошо было бы выбрать пример, который не каждодневен и даже имеет в себе что-то экстремальное, но зато сыграл видную роль в истории политической мысли. Речь пойдет о проблеме добра.
Феномен добра в абсолютном смысле — т. е. нечто такое, что не совпадает ни с исключительным и выдающимся, ни с просто полезным, — в истории Запада известен лишь с возникновения христианства. С тех пор однако мы сознаем, что совершение добрых дел есть одна из существенных возможностей человеческой деятельности. Глубокая неприязнь раннего христианства к res publica, к делам публичности, с такой великолепной резкостью сформулированная Тертуллианом в его пес ulla magis res aliena quam publica, „никакое дело не так чуждо нам как публичное"[lxxxiv], становится всеобщей и естественно справедливо истолковывается как следствие раннехристианских эсхатологических ожиданий, утративших свою актуальность потом, когда опыт научил что даже гибель Римской империи еще не означает конца мира[lxxxv]. Однако у безмирности христианства есть и другие корни, имевшие даже возможно еще большее значение для собственных учений Иисуса и во всяком случае настолько не относящиеся к вере в конец мира, что появляется искушение увидеть тут глубинную причину почему христианскому отчуждению от мира все же удалось потом пережить провал эсхатологических ожиданий.
Единственная деятельность, какой Иисус по свидетельствам учил словом и делом, это деятельное добро, и такая деятельность имеет явную тенденцию совершаться скрыто от человеческих ушей и глаз. Таким образом раннехристианская враждебность к публичности, упор на то, что благочестивое житие должно держаться как только можно далеко от нее, позволяет понимать себя между прочим как убедительно очевидная установка, вытекающая независимо от всех надежд и ожиданий из позиции деятельного добра. Ибо как только доброе дело становится публично известно, оно естественно теряет свой специфический характер добра. Делаясь явным, оно может еще оставаться весьма полезным, подобно всем предприятиям благотворительных учреждений, или высоко ценным, подобно всем по-настоящему солидарным поступкам; но именно добром оно уже не будет. Так что Иисус предупреждал: „Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми для того чтобы они видели вас... пусть милостыня твоя будет втайне". Добро не терпит когда его видят и замечают, ни другие ни тот кто добро творит. Кто осознает, что делает доброе дело, уже не добр; он стал просто полезным членом общества или помнящим о своем долге прихожанином церкви. Оттого Иисус говорил: „Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая".
Этот странный негатив деятельного добра, которое должно действовать в мире и все же обязано никогда не выступать в нем явно, может быть причиной того, почему образ Иисуса из Назарета на исторической сцене воспринимался как столь глубоко парадоксальное событие; заведомо связана с этим негативом отчетливая определенность, с какой Иисус думал и учил что ни один человек не может быть добрым: „Что ты называешь меня благим? никто не благ, как только один Бог"[lxxxvi]. Того же обстоятельства касается история в Талмуде о тридцати шести праведниках, ради которых Бог спасает мир; кто они, никто не знает, и всего менее они сами. Все это напоминает разумеется о великом прозрении Сократа что ни один человек не может быть мудрым, но прежде всего о том что из того же прозрения родилась любовь к мудрости, или философия. Так же и вся история жизни и деяний Иисуса есть словно бы свидетельство того, как из знания, что ни один человек не может быть добрым, возникает неизвестная до той поры любовь к добру.
Никто не может любить мудрость или добро иначе как в отвечающих им деятельностях, т. е. в философии и деятельном добре. Обе деятельности однако характеризуются тем, что они вообще могут иметь место только если бытия-добрым или бы-тия-мудрым не существует. Мудрый человек имел бы мудрость и больше не нуждался в философствовании, благой человек неким образом излучал бы добро уже больше не нуждаясь в его обеспечении делами. Разумеется, никогда не было недостатка в попытках выставить образцом самому себе или другим доброго человека или мудрого мужа, которым следует соревнуясь подражать, но эти попытки представить существующим нечто такое, что никогда не способно пережить летучего момента самого деяния, кончались всегда абсурдом. Философы поздней античности, от себя самих требовавшие быть мудрыми, кончали абсурдным утверждением что мудрый муж остается еще „счастливым" когда его живым зажаривают в Фалерейском быке. И христианское требование подставить другую щеку и любить ненавидящих вас, если снять с него метафорически-полемическое облачение и испробовать в действительной жизни, оказывается не менее абсурдно.
Но тут уже и кончаются сходства, какие удается выявить между любовью к мудрости и любовью к добру и между отвечающими им деятельностями. Обе вступают в характерное противоречие к пространству публичной явленности, однако любовь к добру представляет в этом отношении абсолютно экстремальный случай и потому имеет в нашем контексте большую актуальность. Только деятельное добро должно совершенно таиться и избегать любого рода явленности и показа, если не хочет сделать само себя невозможным. Философ, напротив, даже когда он с Платоном решается покинуть „пещеру" дел человеческих, должен по крайней мере все-таки никогда не прятаться от самого себя; напротив, под небом идей он найдет не только истинную сущность всего что есть, но прежде всего и самого себя тоже, а именно в диалоге между „мною и мною самим" (έμέ έμαυτω), в котором Платон явно видел существо мышления[lxxxvii]. Философ, покидающий пещеру людей, уходит в одиночество, а одиночество означает пребывание наедине с самим собой; и мышление, хотя по видимости оно и самая уединенная из всех деятельностей, никогда не происходит совершенно без партнера, никогда по-настоящему и абсолютно не одиноко.
Напротив, тот, кого любовь к благу захватила так же как философа любовь к мудрости, не может позволить себе жить в одиночестве и все же его жизнь с другими и ради других не должна иметь никаких свидетелей, а главное ее нельзя вести в общении с самим собой. Он не одинок, но один; живя с другими, он должен однако от них таиться, должен жить так, словно покинут всем миром, и его покинутость, как покинутость вообще, состоит в том, что он не может допустить себя до одиночества, т. е. до того открытия, что люди имеют удивительную способность доставлять сообщество самим себе, чем в конечном счете и является способность мыслить. Философ в своем одиночестве всегда может положиться на то что его мысли составят ему компанию; но добрые дела никому не могут составить компанию, о них нельзя думать; когда они сделаны, их надо сразу же и забыть, уже одно размышление о них уничтожает их добротность. Сверх того думание, поскольку можно о нем вспоминать, всегда кристаллизуется в мысли, а мысли подобно всем вещам, которые обязаны своим существованием памяти, склонны овеществляться, превращаться в осязаемые предметы, которые потом в свою очередь подобно написанной странице или напечатанной книге делаются составной частью созданного человеком вещественного мира. Но добрые дела, как бы продукт деятельного добра — подобно тому как мысли продукт деятельного мышления, — никогда не могут образовать и составную часть мира; их забывают, они приходят и уходят и никакого следа от них не остается. Поистине они не от мира сего.
Эта неотъемлемая от добрых дел безмирность и несубстанциальность имеет последствием то, что охваченный любовью к добру человек не может жить иначе как в религиозно определенных границах, причем само добро — подобно мудрости в античности — должно быть свойством, которым не могут быть наделены люди, а только боги. Но любовь к добру в отличие от любви к мудрости не остается опытом „немногих", точно так же как покинутость в отличие от одиночества есть испытание, могущее случиться со всеми людьми. Уже на этом основании феномены добра и покинутости более весомы в сфере политического, где всегда приходится иметь дело с „многими", чем мудрость и одиночество. При всем том лишь одиночество в образе философа способно стать подлинно человеческим образом жизни в мире, тогда как гораздо более общий опыт покинутости в его многочисленных разновидностях вступает в такое противоречие с плюрализмом, обусловливающим всю вообще человеческую жизнь, что просто-таки невыносим. Единственный известный нам позитивный образ жизни в покинутости есть деятельное добро, и оно должно бежать в общество Бога, единственного возможного свидетеля добрых дел, если человеческая экзистенция не разобьется о него. Безмирность специфически религиозного опыта, насколько в нем действительно переживается нечто подобное любви к ближнему в смысле деятельности, — и дело здесь не идет о намного более частом опыте пассивного узрения потусторонней истины откровения, — сводится к опыту посюсторонности и дает о себе знать внутри мира; такая безмирность не трансцендирует мир и не оставляет его за собой, а должна подобно всем другим деятельностям осуществляться в мире. Но хотя проявления добра имеют место в том же мире, в каком происходят все другие деятельности, и остаются зависимы от его посюсторонности, отношение деятельного добра к миру существенно негативно по своей природе, а именно, поскольку дело идет о некой деятельности, это активно отрицающее отношение. Избегающее мира и таящееся в нем от его обитателей, оно отрицает пространство, которое мир имеет предложить людям, прежде всего пространство мирской публичности, в которой всё и вся видно и слышно.
Потому добро как гармоничная жизненная форма внутри границ публичной сферы не только невозможно, но и, где бы его ни пытались осуществить, откровенно разрушительно. Никто не сознавал разрушительные свойства деятельного добра яснее чем Макиавелли, который в одном столь же прославленном, сколько и ославленном тексте отважился сказать что хочет научить людей не быть добрыми[lxxxviii]. Естественно, он не хотел этим сказать что хочет научить людей быть злыми. Преступление и доброе дело имеют между собой нечто общее, а именно они, хоть и на разных основаниях, должны таиться от человеческих глаз и ушей. Макиавеллиевский критерий политического действия был такой же, как в классической древности, а именно „сияние славы", а зло настолько же не может „сиять" как и добро. Потому злодейство, которым действительно можно достичь власти, но не славы, он отвергает не менее чем добро[lxxxix]. Когда злодейство выходит из своего укрывища, оно бесстыдно, и когда оно появляется публично, то может это делать лишь поскольку пытается прямо уничтожить общий мир. А добро, которое наскучив своей затаенностью вознамерится играть публичную роль, не только уже по-настоящему не добро, но в нем появляется откровенная порча, а именно вполне по его же собственной оценке; оно поэтому, где бы ни показывалось, может иметь в публичности только коррумпирующее влияние. Потому Макиавелли и утверждал, что столь актуальная в его время проблема коррумпирующего влияния церкви на политическую жизнь Италии является не столько вопросом индивидуальной коррупции известных епископов и прелатов, сколько напротив неизбежным следствием церковного влияния на мирские обстоятельства. Настоящая дилемма, вытекающая из господства религиозного над мирским, представлялась ему поэтому так: либо мирская политика коррумпирует церковные институты и потому разлагается сама, либо же религиозный организм противостоит опасности порчи со стороны мирского и должен единственно ради собственной цельности уничтожить публичное пространство явленности и блеска. Так что в глазах Макиавелли реформированная церковь была по сути опаснее чем зараженная миром и коррумпированная, какую он слишком хорошо знал по опыту своего времени; но и возможные последствия противостояния коррупции тоже не были ему безвестны. Он питал большое уважение к движениям религиозного возрождения своего времени, к „новым орденам" францисканцев и доминиканцев, которые „возвращали религию к ее истинным началам" и вновь возрождали религиозное чувство „в сердцах, в которых оно уже совсем угасло". Но „спасая веру от гибели, какую ей несла необузданность прелатов и других вождей церкви", это движение возрождения проповедовало народу деятельное добро и христианское „не противьтесь злу — с тем успехом, что „коварные правители могут творить столько беды, сколько им вздумается"[xc].
Наш пример деятельного добра конечно предельный пример локализации человеческих деятельностей в различных областях мирской-человеческой жизни, поскольку делание добрых дел явно даже в области приватного не может чувствовать себя надежно и уютно. Однако на нем отчетливо видно, отчетливее пожалуй на первый взгляд чем в других видах повседневной деятельности, из которых состоит vita activa и к которым мы обратимся в нижеследующих главах, как сильно смысл человеческих дел зависит от места где они предпринимаются. На нем видно, иными словами, что дошедшее до нас в исторической традиции единодушие политических сообществ относительно места определенных деятельностей и относительно того, какие из них заслуживают быть публично выставленными на обозрение и какие требуют потаенности в приватной сфере, не произвольно и не привязано исключительно к историческим обстоятельствам, но заложено в самой сути дела. Ставя таким образом вопрос о политическом смысле vita activa, я не имею цели дать какой-то исчерпывающий анализ всех вообще относящихся сюда деятельностей; это невозможно уже потому что членения внутри самой vita activa настолько оставлены без внимания традицией, ориентировавшейся в своих анализах исключительно на vita contemplativa с ее мерками, что надо радоваться уже тому, что удается хотя бы иметь в поле зрения некоторые существенные виды деятельности и в какой-то мере определить их политическое значение.
[i] Бросается в глаза что гомеровские боги действуют только когда задействованы люди, управляют ли они ими издалека или вмешива тся в их дела непосредственно. Распри между богами вроде бы тоже вызваны их участием в человеческих интригах, прежде всего тем что они берут чью-то сторону в конфликтах смертных. Так возникают истории, в которых люди и боги действуют совместно, однако инициативу захватывают именно смертные, даже если решение выносится потом в собрании богов на Олимпе. Мне кажется, что гомеровское sqy avbquv τ υ ων τ (Одиссея I 338) намекает на такое „взаимодейство": певец поет деяния богов и людей, а не божественные истории с одной стороны, человеческие с другой. Так и в „Теогонии" Гесиода речь идет не о деяниях богов, но либо о возникновении мира (Пбслл.), к чему олимпийские боги непричастны (ибо строка 118 явно неаутентична), либо „о блаженных богах и многославных деяниях людей" (99 ел.), и нигде, насколько я вижу, о многославных деяниях богов.
[ii] Я цитирую из Index rerum Тауринского издания. В тексте слова politicus нет, но Index подытоживает тенденцию Фомы правильно; см. Summa theologica I, 96, 4. II 2, 109, 3.
[iii] Societas regni у Ливия, societas sceleris у Корнелия Непота. Разумеется, подобные „союзы" могли заключаться и для деловых целей; и слово ,societas' встречается в этом смысле уже применительно к средневековой экономике. См. W.J. Ashley, An Introduction to English Economic History and Theory, 1931, p. 419.
[iv] Выражением „человеческий род" я хотела бы здесь и в нижеследующем обозначать родовую сущность в отличие от совокупности всех людей, которую я буду называть „человечеством".
[v] Werner Jager, Paideia III, p. 111 (американское издание).
[vi] Во введении к La cite antique Фюстель де Куланж утверждает правда, что он покажет, что в основании античной семейной структуры и античного города-государства лежит „одна и та же религия"; на деле однако он приводит потом многочисленные свидетельства того, что власть рода и власть полиса „etaient, аu fond, deux regimes opposes... qui devaient un jour ou l'autre se faire la guerre... Ou la cite ne devait pas durer, ou elle devait a la longue briser la famille" (книга IV, гл. 5). Это противоречие в книге, еще и сегодня основополагающей, возникло по всей видимости оттого, что Куланж берет Рим и греческие города- государства вместе, а именно так, что свои категории и иллюстрации он заимствует по существу из римской истории и римских институтов, прилагая их затем к греческим условиям, — хотя он разумеется и подчеркивает, что Пританей, соответствующий римскому культу Весты, „s'affaiblit de bonne heure en Grece. Mais [cette grande veneration] ne s'affaiblit jamais a Rome" (книга III, гл. 6). Пропасть между семейной и государственной организацией была в Греции не только глубже чем в Риме, но сама религия Гомера и олимпийских богов, ставшая потом религией полиса, с самого начала отличалась от древних божеств семьи и домашнего хозяйства. В то время как Веста, богиня очага, стала покровительницей Рима и ее культ носил выраженный политический характер, ее греческая товарка Гестия впервые упоминается у Гесиода, единственного видного греческого поэта, который в намеренной оппозиции к Гомеру восхваляет жизнь у домашнего очага. А в общественной религии полиса она должна была уступить свое место в собрании двенадцати олимпийских божеств Дионису (см. Mommsen, Romische Geschichte, книга I, гл. 12 5-го изд., и Robert Graves, The Greek Myths, 1955, 27 k.).
[vii] Пелей, говорит Феникс, поручил ему научить этому сына: τ fcrpyQ έμ υαι πρηκτηρά τ έργων (Илиада IX, 443). Речь идет явно о воспитании для агоры, равно как и для войны, которым обще то, что обе дают возможность отличиться как раз в слове и деянии.
[viii] Буквальный перевод последних строк „Антигоны" (1350-54) следующий: „Но великие слова, противостоящие (или отплачивающие) великим ударам высокоплечих (богов), учат пониманию в старом возрасте". Содержание этих строк так загадочно для современного понимания, что трудно найти переводчика, отваживающегося передать их обнаженный смысл. Исключением тут перевод Гёльдерлина [Große Blicke aber,/Große Streiche der hohen Schultern/Vergeltend,/Sie haben im Alter gelehrt, zu denken]. Один анекдот, сообщаемый Плутархом, способен проиллюстрировать связь между действием и говорением на гораздо более низком уровне. Некто однажды обратился к Демосфену и поведал, что был жестоко избит. „Но ты", сказал Демосфен, „ничего из того, о чем мне рассказываешь, не испытал". Тогда тот повысил голос и вскрикнул: „Я ничего не испытал?" „Теперь", сказал Демосфен, „я слышу голос обиженного и пострадавшего" (Жизнеописания, „Демосфен"). Последний остаток этой древней связи между речью и мыслью, чуждой нашим представлениям о выражении мысли словами, можно видеть в стандартной цицероновской фразе ratio et oratio.
8a Для этой тенденции характерно, что в итоге политика вообще называют „ритором" (ρήτωρ) и риторика, искусство публичной речи (в отличие от диалектики, искусства философской речи) Аристотелем определяется именно как искусство уговаривать и убеждать (Риторика 1354а 12 слл. и 1355b 26 слл). (Различение между философской и политической речью восходит к Платону, Горгий 448.) Так что в Греции могло быть и такое мнение, что падение Фив имело причиной пренебрежение там риторикой в пользу военного искусства (Burck-hardt, Griechische Kulturgeschichte, Kroner Verlag, Bd. Ill, S. 190).
[ix] Этика Никомахова 1142a 25 и 1178a 6 слл.
[x] Фома, S. Th. II 2, 50, 3.
[xi] Потому dominus и pater f'amilias имели хождение как синонимы, равно как со своей стороны servus и familiar is: Dominum patrem familiae appellaverunt; servos... familiares (Seneca, Ep. 47, 12). Когда императоры Рима в конце концов заставили именовать себя Dominus, — се nom, qu'Auguste et que Tibere encore repoussaient comme une malediction et une injure, — то со старой римской свободой было покончено (Н. Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquite, 1847, vol. III, p. 21).
[xii] См. чрезвычайно содержательное исследование: Gunnar Myrdal, The Political Element in the Development of the Economic Theory, 1953.
"Народное хозяйство" автор переводит через „social economy or collective housekeeping".
[xiii] Этим не отрицается, что национальное государство и его общество возникли из средневекового королевства и феодализма, в рам ках которого семья и дом как хозяйственная единица уже получили общее значение, неизвестное античности. Тем не менее тут нельзя игнорировать различие между феодализмом и Новым временем. Внутри феодализма семьи и домохозяйства были почти независимы друг от друга; потому королевский дом, представлявший страну как целое и относившийся к феодальным господам как primus inter pares, и не мог претендовать, в смысле абсолютного господства, на главенство в единой гигантской семье. Средневековая „нация" состояла из конгломерата семей; ее представители не считали себя членами одной единственной семьи, охватывающей в качестве нации все население.
[xiv] Это различие совершенно явственно в первых разделах псевдоаристотелевской „Экономики", где деспотическая монархия (единовластие) домохозяйства специально противопоставляется организации полиса, устроенной совершенно иначе.
[xv] В Афинах поворотным моментом могло быть законодательство Солона. Куланж не без основания видит в афинском законе, делавшем поддержку родителей обязанностью детей, подлежащей обжалованию в законодательном порядке, свидетельство утраты родительской власти (ук. соч., книга IV, гл. 8). Однако государство лимитировало законную власть родителей лишь поскольку она вступала в конфликт с его собственными интересами, а не ради свободы или прав индивидуальных членов семьи. В этом отношении знаменательно, что дети не обладали правом на жизнь, которое нам кажется таким само собой разумеющимся, но продажа и подкидывание грудных детей сохранялись вплоть до 374 года нашей эры, когда прочие права отцовской potestas давно уже устарели (см. R. В. Barrow, Slavery in the Roman Empire, 1928, p. 8).
[xvi] Типично для этого различия между владением и собственностью, что были греческие города-государства, где граждане законодательно обязывались делить между собой и сообща потреблять урожай, при том что в тех же самых государствах каждый гражданин обладал абсолютно неоспоримым правом собственности на свой земельный надел. Ср. Куланж (op. tit., книга II, гл. 6), который называет это обстоятельство „contradiction bien remarquable", не видя, что в античном восприятии собственность и владение не имели между собой ничего общего.
[xvii] См. Законы 842.
[xviii] Цит. по Куланжу, op. cit., книга II, гл. 9, из Плутарха Quaestiones romanae 51. Представляется странным, что Куланж при своем одностороннем акценте на богах подземного мира в греческий и римской религии мог не заметить, что эти боги не только боги мертвых и культ не просто культ умерших, но что эта ранняя, привязанная к земле религия служила жизни и смерти как двум аспектам единого в себе процесса. Жизнь приходит от земли и возвращается в нее; рождение и смерть лишь две разные стадии одного и того же биологического процесса, подчиненного подземным богам.
[xix] Знаменательна дискуссия между Сократом и Евтером у Ксено-фонта (Memorabilia II 8): необходимость принудила Евтера к телесному труду и он уверен что не в состоянии долго вынести этот род жизни; он знает также что в старости будет беспомощным и покинутым. Он полагает все же что лучше трудиться чем просить милостыню. На это Сократ предлагает ему поискать кого-нибудь, кто в лучшем положении и нуждается в помощнике. Евтер сразу отвечает что не вынесет „рабства" (δουλεία).
[xx] Немецкое слово Gesellschaft очень ясно выражает в своей этимологии отмеченную выше тесную связь между обществом и организацией домашнего хозяйства. „Тут соединение приставки Ge, выражающей обобщенность отношений, со словом Saal, старым обозначением германского однокомнатного дома... Общество, Gesellschaft, было сообществом всех живущих в таком доме" (Theodor Eschenburg, Staat und Gesellschaft in Deutschland, 1956, S. 18).
[xxi] Так у Гоббса в „Левиафане", часть I, гл. 13.
[xxii] Известнейшее и красивейшее свидетельство этого греческого восприятия свободы есть у Геродота в его обсуждении различных' государственных форм (III, 80-83): Отан, сторонник равенства полиса, политической Ισονομία, заявляет, что не хочет ни господствовать ни пойти под господина. Но в том же смысле и Аристотель говорит что жизнь свободного человека лучше жизни деспота, причем для него само собой разумеется что деспот не свободен (Политика 1325а 24). По Куланжу все греческие и латинские слова, выражающие господство над другими, — как rex, pater, αναζ, βασιλεύς — идут из сферы домашнего хозяйства и первоначально были именами, служившими для обращения рабов к своим господам.
[xxiii] Неграждане всегда были большинством населения, хотя соотношение сильно менялось. Ксенофонт, утверждающий, что на рынке в Спарте увидел не более 60 граждан на 4000 человек, наверное все-таки преувеличил (Hellenica III 35).
[xxiv] „Мысль, что общество подобно главе семьи ведет хозяйство в пользу ее членов, прочно укоренилась в экономической терминологии... В немецком языке выражение Volkswirtschaftslehre, политическая экономия, буквально учение о народном хозяйстве... заставляет думать, что существует коллективный субъект хозяйственной деятельности... В английском... в выражениях ,theory of wealth' и ,theory of welfare' находят себе выражение сходные представления" (Myrdal, op. cit., p. 140). „Что подразумевается под социальной экономией, функция которой общественное хозяйство? Здесь прежде всего implicite проводится аналогия между индивидом, ведущим хозяйство в своей семье и у себя дома, и обществом. Адам Смит и Джеймс Милль довели потом эту аналогию до эксплицитности. После критических работ Джона Стюарта Милля и с постепенным принятием различения между практической и теоретической политической экономией от этой аналогии отказались" (р. 143). Что с тех пор этой аналогией уже не пользуются, имело понятным последствием то, что существенные структуры в этой области все больше уходят в темноту. Сам этот факт можно объяснять тем, что необычайное развитие общества с одной стороны в известной мере поглотило семью, а с другой, именно поскольку оно само происходит из семейного сообщества, оно смогло стать ей почти полноценной заменой — или во всяком случае нередко ощущается в качестве таковой.
[xxv] R. Н. Barrow, The Romans, 1953, p. 194.
[xxvi] To, что Лавассер (Ε. Lavasseur, Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789, 1900) констатировал в отношении феодальной организации труда, справедливо для всего феодального общества: „Chacun vivait chez soi et vivait de soi-meme, le noble sur la seigneurie, le vilain sur sa culture, le citadin dans sa ville" (p. 229).
[xxvii] Приличное обращение с рабами, рекомендуемое Платоном в „Законах" (777), имеет мало общего со справедливостью и является вопросом самоуважения, не учета интереса рабов. О параллельном существовании двух законов — одного действующего среди свободных и другого для главы семейства и хозяина — см. Валлон (op. cit., II, р. 200): „La loi, pendant bien longtemps, done... s'abstenait de pénétrer dans la famille, où eile reconnaissait l'empire d'une autre loi". В той мере, в какой античное, особенно римское законодательство вообще вмешивалось в семейно-хозяйственные обстоятельства — обращение с рабами, семейные отношения, — оно это делало чтобы смягчить неограниченную в принципе власть хозяина и главы семейства. Чтобы справедливость распространялась на совершенно „приватную" совместную жизнь рабов, было немыслимо; они были per definitionem вне закона и подчинены власти своего господина. Только сам господин, поскольку он был не только рабовладелец, но еще и гражданин, стоял под законом, который тогда в интересах государства мог урезать его семейно-хозяйственную власть.
[xxviii] W.J. Ashley, op. cit., p. 415.
[xxix] Буквально „восхождение" из низшей сферы или ранга в более высокую составляет у Макиавелли постоянно повторяющуюся тему. См. прежде всего „Государь", гл. 6, об Иероне Сиракузском, и гл. 7; а также „Рассуждения" книга II, гл. 13.
[xxx] „By Solon's time slavery had come to be looked on as worse than death" (Robert Schlaifer, Greek Theories of Slavery from Homer to Aristotle, в Harvard Studies in Classical Philology, 1936, vol. XLVII). Что сами рабы явно это мнение не разделяли, привело к известному и для нас столь скандальному допущению что есть люди, которые „по природе" рабы, что подробно разбирает Аристотель (в гл. 5 книги 1 своей „Политики"). Рабов упрекали в чрезмерной любви к жизни, φιλοφυχία, иначе говоря в трусости. Так Платон был уверен, что доказал рабскую природу рабов, указав на то что они ведь могли бы предпочесть смерть порабощению (Государство 386а). Позднее эхо этого слышится еще у Сенеки, который на жалобы одного раба отвечает: „Почему кто бы то ни было должен был делаться рабом, когда свобода так близко под рукой у каждого?" (Ер. 77, 14); ибо „для того, кто не умеет умирать, жизнь в любом случае рабство" (vita si moriendi virtus abest, servitus est — ib. 13).
Чтобы понять эту установку, надо вспомнить о том что большинство рабов в древности были побежденные враги; лишь небольшой процент рекрутировался из людей, родившихся в рабстве. Римская республика привлекала вообще свой контингент рабов из стран вне римского господства, но греческие рабы были большей частью тоже греки. Вместо того чтобы позволить продать себя в качестве пленных в рабство, они могли совершить самоубийство, а поскольку мужество было кардинальной политической добродетелью, предпочтя жизнь, они тем самым уже доказали, что „по природе" не годятся быть свободными и гражданами полиса. Также и в Риме слово labos тесно связано с представлением о позорной смерти (см. напр. Вергилий, Энеида VI), и эта установка изменилась лишь в позднейшие века Римской империи, когда не только стало сказываться влияние стоицизма, но и рабское население большей частью пополнялось из людей, родившихся рабами.
[xxxi] В этой связи Эдуард Майер в своем докладе „Рабство в древности" (Дрезден 1898) цитирует застольную песнь критянина Гюбрия: "Богатство мое копье и меч и украшенный щит... А кто не отваживается владеть копьем и мечом и украшенным щитом, охраняющим тело, те в страхе ложатся у моих ног, взывая ко мне как к своему господину и великому царю".
[xxxii] См. его „Agrarverhältnisse im Altertum", в Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1924, S. 147.
[xxxiii] См. Политика кн. I гл. 2.
[xxxiv] Хорошей иллюстрацией здесь служит замечание Сенеки, который, обсуждая полезность высокообразованных рабов (знающих классиков наизусть) для по-видимому порядком невежественного господина, комментирует: „Что знают домочадцы, знает хозяин" (Письма кЛуцилию 27, 6, цит. по: Barrow, Slavery in the Roman Empire, p. 61).
[xxxv] α'ιεν αριστεύειν και νπείροχον εμ,μεναι άλλων, Илиада VI 208 „всегда быть первым и преобладать над остальными" — главная забота гомеровских героев, а Гомер был все-таки „воспитатель всей Эллады".
[xxxvi] „Наука" политической экономии существует лишь с Адама Смита, для экономических учений канонистов хозяйствование ,искусство', а не наука (см. W. J. Ashley, op. cit., p. 379 ff.). Классическая политическая экономия уже предполагает, что человек, насколько он вообще занят активной деятельностью, действует исключительно в собственных интересах и повинуется только одному инстинкту, инстинкту приобретения. Введение у Адама Смита некой „невидимой руки, которая достигает цели никем не ставившейся", ясно показывает, что даже и такой минимум инициативы все еще содержит слишком много непредвиденных и неподрасчетных факторов и потому неподъемен для науки. Маркс редуцировал затем необозримое множество частных интересов к классовым интересам, а эти классовые интересы ограничил далее двумя основными классами, капиталистами и рабочими, так что ему в своей науке приходилось иметь дело только с одним единственным конфликтом, в то время как классическая экономия не могла стать научной, потому что увязала во множестве взаимопротиворечивых конфликтов. Марксова система смогла достичь немыслимой у его предшественников ранее согласованности и связности потому, что Маркс поставил в средоточие своих рассмотрений „обобществленного человека", который в еще намного меньшей мере способен к поступку и к собственной инициативе чем „экономический человек" классической и либеральной науки о народном хозяйстве.
[xxxvii] Одна из главных заслуг Мирдаль (op. cit., p. 54, 150) состоит в демонстрации того, что именно либеральный утилитаризм, а не социализм первым „оказался загнан в несостоятельную ,коммунистическую фикцию' относительно единства общества" и что эта „фикция" присуща большинству сочинений экономистов. Мирдаль показывает, что политэкономия только тогда может быть наукой, когда исходит из гипотезы, что все общество как целое повинуется одному единственному интересу. За либеральной презумпцией гармонии интересов стоит всегда „коммунистическая фикция" единого основополагающего интереса, который тогда и опознают в таких общих понятиях как „всеобщее благосостояние" или „commonwealth". Либеральная экономия таким образом всегда следовала „коммунистическому" идеалу, а именно „интересу общества вообще" (р. 194-195). Все цепляется за то, что понятие общества вообще „сводится к тому что социум воспринимается как один единый субъект. Это однако концептуально прямо-таки непредставимо. Когда мы пытаемся представить себе общество таким образом, мы уже абстрагировались от того существенного обстоятельства, что общественная деятельность есть результат целеполаганий многих индивидов" (р. 154).
[xxxviii] Блестящее изложение этого обычно упускаемого аспекта Мар-ксова учения находим у Зигфрида Ландсхута: Landshut S., Die Gegenwart im Lichte der Marxschen Lehre (Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Bd. I. Hamburg, 1956).
[xxxix] Здесь и далее я ввожу понятие разделения труда только применительно к новоевропейским условиям труда, когда какая-то деятельность раздробляется и атомизируется до бесчисленного множества минимальных операций, а не применительно к „разделению труда" при профессиональной специализации, состоящему в том, что множество ремесел „разделяются" между собой в труде, необходимом для общества в целом. Это последнее словоупотребление может быть оправдано только если допустить, что социум представляет собой одного единственного субъекта, чьи потребности некой „невидимой рукой" разделяются в целях своего удовлетворения между одиночками. То же относится mutatis mutandis к причудливому представлению о разделении труда между полами, которое некоторые авторы принимают за первичное среди всех разделений труда. Человеческий род предполагается здесь одним единственным субъектом, который делит потом свой труд между подчиненными родами мужчин и женщин.
Поскольку при таком употреблении слова часто ссылаются на античность, уместно заметить что греческое разделение функций на мужские и женские происходит из совсем иного горизонта. Различение проходит между проведением жизни вовне, в миру и внутри, в домашних стенах (см. Ксенофонт, Домохозяин VII 22). Только жизнь в миру достойна человека; о разделении труда дело могло бы идти только если бы мужчины и женщины оказались в равной мере людьми, а подобное равенство между мужчиной и женщиной было немыслимо (см. прим. 82). Античность, похоже, знала только ремесленное разделение, но не разделение труда, а разделение ремесел обусловливалось природными задатками. Так, труд в золотоносных шахтах, где были задействованы тысячи рабочих, разделялся смотря по силе и ловкости (см.J.-P. Vernant, Travail et nature dans la Grece ancienne. — Journal de psychologie normale et pathologique, vol. LII, no. 1, 1955).
[xl] Все слова для „труда" в европейских языках — латинское и английское labor, греческое πόνος, французское travail, немецкое Arbeit — означают исконно ,муку' в смысле причиняющего страдание и боль телесного усилия и имеют также смысл родовых мук. Labor, которому родственно labare, значит собственно „шатание под тяжестью", Arbeit так же как πόνος имеет один этимологический корень с Armut, нищета, в греческом соотв. navia. Даже Гесиод, которого обычно числят среди немногих защитников труда в древности, говорит о „труде мучительном" — πόνον άλγινόεντα. — и называет его на первом месте среди зол (Теогония 226). (Для греческого словоупотребления см. G. Herzog-Hauser, Ponos, в Pauly-Wissowa, Bd. 212). По Kluge-Götz, Etymologisches Wörterbuch, Berlin 1951, как arm, нищий, так и Arbeit, работа, происходят от германской основы arbm-, исходное значение которой: одинок, покинут. Германское arbejidiz, мучение, служит для перевода латинских labor, tribulatio, persecutio, adversitas, malum (см. Klara Vontobel, Das Arbeitsethos des deutschen Protestantismus, диcсертация, Берн 1946).
40a Пиндар, Олимпийские песни XI 4.
[xli] Часто цитируемые слова Гомера, „Жалкую рабскую долю избравши в судьбу человеку, Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет" (Одиссея XVII 320 слл.) вложены у него в уста Евмея, который сам раб; это констатация, не критика или нравственно оценочное суждение. Раб утратил свою άρετη, свое превосходство, ибо еще до того лишился пространства, в котором имел возможность превзойти других.
[xlii] Barrow, op. cit., p. 156, уже отмечал, что по этой причине невозможно написать биографию раба или дать его характерологический очерк. „Пока не прорвутся к свободе и известности, они остаются скорее теневыми фигурами чем личностями".
[xliii] Перед лицом обескураживающе скудного „свидетельского материала" по этим вещам позволю себе напомнить одно малоизвестное стихотворение о боли, написанное Рильке на смертном одре:
Приди, последняя, кого признать готов я,
В телесном облике, без исцеленья Смерть.
Последние строки такие:
Я ль тот, кто здесь, неузнанный, сгорает?
Воспоминаний груза нет во мне.
О, жизнь: ты значишь быть вовне.
И я в огне. Никто меня не знает.
[xliv] О субъективности боли и ее значении для всех гедонистических сенсуалистских мировоззрений, см. §§ 15 и 43. Для живущих смерть есть прежде всего исчезание из явленности. Однако в отличие от смерти, которая вообще не может выступить в явленность, существует форма, в которой и смерть тоже как бы является среди живущих, и это старение — которое Гёте походя и бесподобно прекрасно называет „постепенным отступанием из явленности". Автопортреты великих мастеров в старости — Рембрандта, Леонардо — свидетельствуют о правде этого замечения. В самом деле, эти картины представляют самый процесс исчезания, как если бы исчезающим отступанием плоти, озаряя его, правила интенсивность взгляда.
[xlv] Я использую здесь „Письмо лорда Чандоса" Гофмансталя. Можно было бы, разумеется, процитировать здесь Рильке или даже Георге.
[xlvi] Contra Faustum Manichaeum V 5.
[xlvii] И это само собой разумеющимся образом остается еще предпосылкой политической философии Фомы Аквинского, который определенно говорит: quamdiu mundus durat (S. Th. II 2, 181, 4).
[xlviii] Организационная форма братства оказывалась тем ближе, что имела прообраз в римских коллегиях, члены которых называли себя иногда „братьями" и „сестрами" и которые вообще были организованы по модели семьи (см. Samuel Dill, Roman Society from Nero to Marcus Aurelius, 1904, кн. II, гл. 3). Термин corpus rei publicae часто встречается в дохристианской латыни, однако означает не где-то саму республику, а живущее на ее территории население. Соответствующее греческое слово σωμ,α употребляется для корпорации и объединения впервые пожалуй только в Новом Завете. Во всяком случае, метафора появляется уже у Павла (I Кор 12, 12-27) и с тех пор обычна у ранних христианских авторов как Тертуллиан (Apologeticus 39) или Амвросий (De officiis ministrorum III 3, 17). Значением все это наполняется впервые в политической теории Средневековья, а именно когда стали вполне серьезно принимать, что человечество в целом образует одно единственное тело — quasi unum corpus, как рассуждает Фома (S. Th. II 1, 81, 1). Тут надо еще обратить внимание, что в раннем Средневековье подчеркивали равнозначность и равноправие всех членов — они все необходимы для благополучия тела, — тогда как позднее акцент сместился на различие между головой и членами, т. е. на неравенство головы, долг которой повелевать, и членов, долг которых повиноваться (см. также Anton-Hermann Chroust, The Corporate Idea in the Middle Ages, в Review of Politics, vol. VIII, 1947).
[xlix] Фома Аквинский, S. Th. II 2, 179, 2.
[l] См. статью 57 устава бенедиктинцев у Лавассера, op. cit., p. 187: как только один из монахов начинает гордиться своей работой, он должен от нее отказаться.
[li] Огромная популярность римских коллегий среди низших слоев народа и главным образом среди рабского населения надо объяснять тем, что они были прежде всего также похоронными союзами, заботившимися не только о приличных похоронах, но и о надгробном камне, что очень привлекало как раз рабов. См. Barrow, op. cit., p. 168 („...good fellowship in life and the certainty of a decent burial... the crowning glory of an epitaph; and in this last the slave found a melancholy pleasure"), и Dill, там же.
[lii] Никомахова этика 1177b 31.
[liii] Wealth of Nations, кн. I, гл. 10.
[liv] Об одиночестве как современном массовом феномене см. David Riesman, The Lonely Crowd.
[lv] Так у Плиния Младшего, цитируемого по: W. L. Westermann, статья „Рабство" в Паули-Виссова, дополнительный том VI, S. 1045.
[lvi] Разность оценки богатства и образования в Риме и Греции не нуждается в свидетельствах. Однако занятно пронаблюдать, как это различие оценки сказывалась на конкретном положении рабов. Так, в римской культурной жизни рабы играли весьма заметную роль, тогда как в Греции они занимали важные позиции в предпринимательстве (см. Westermann, ibid., S. 984).
[lvii] По Августину, долг любви к ближнему ставит предел otium'y и созерцанию. Vita activa возникает из любви к ближнему; и в ней „мы должны думать не о почестях или власти в этой жизни... но о спасении тех, кто стоит ниже нас, salutem subditorum" (De civitate dei XIX 19). Разумеется, тут больше от ответственности отца семейства перед своими чадами и домочадцами чем от политической ответственности. Христианская заповедь заботиться о своих собственных делах, опирающаяся большей частью на I Фесс 4, 11: „чтобы жить тихо, делать свое дело", замыслена как противоположность политической задействованности: евангельское ττράττειν τα ίδιа противостоит привычному πράττειν τα κοινά.
[lviii] Куланж предлагает слово familia переводить как собственность, поскольку оно обозначает поле и почву, дом, деньги и рабов (op. cit., р. 107). Моммзен переводит familia иногда просто как кабала, что конечно по сути своится к тому же. Важно, что эта собственность не владение, которое семья или ее глава могли бы забрать с собой; собственность скорее пространственное понятие, „собственность привязана к очагу, очаг к почве" (Куланж, op. cit., p. 62). Собственность неподвижна как очаг и могила, которые к ней относятся. „Преходящий — это человек. Это человек, по мере того как семья развертывает свои поколения, достигает положенного часа, когда он продолжит культ и возьмет на себя заботу об имении" (op. cit., кн. II, гл. 6).
[lix] Лавассер (op. cit., p. 240 и прим.) описывает правила основания одной средневековой общины и правила принятия в нее: „Недостаточно было жить в том же городе, чтобы иметь право доступа. Надо было... владеть домом". За этим следовало: „Всякое преступление, совершенное против общины, влекло за собой разрушение дома и изгнание виновника".
[lx] Разница между собственностью и имуществом была совершенно явственна в случае рабов, которые хоть и не могли иметь собственности, т. е. собственного дома, однако никоим образом не составляли неимущего класса в современном смысле. Peculium, приватное имущество римского раба, могло достигать значительной суммы и включать даже собственных рабов (vicarii). Barrow (op. cit., p. 122) говорит об „имуществе, каким владел самый скромный из его класса".
[lxi] Куланж цитирует замечание Аристотеля, что в древние времена сын при жизни отца не мог стать гражданином и что после его ухода из жизни лишь старший сын получал права гражданства. Также и разница между римским plebs и populus romanus заключалась в том что plebs состоял из людей без дома и очага (op. cit., кн. III, гл. 12).
[lxii] „Вся эта религия была очерчена домашним кругом... Все эти боги, Очаг, Лары, Маны, назывались богами скрытыми или богами внутренними. Для всех деяний этой религии требовались таинства, sacrificia occulta, говорит Цицерон" (Куланж, op. cit., кн. I, гл. 4).
[lxiii] Похоже, что задачей Элевзинских мистерий было так сообщить посвященным это потаенное, которое, хотя и обще всем людям, все же задевает каждого именно в его единственности, чтобы оно в свойственной ему ауре тайны снова могло сделаться своего рода всеобщим опытом, который, однако, хотя и столь многие приняли в нем участие, никогда не должен был обсуждаться публично. Принципом мистерий было то, что всякий мог быть в них посвящен и принимать в них участие, но никто не смел о них говорить, и именно поскольку они касались несказанного; а несказанный опыт располагался вне политического, как он располагался и вне языка. Что мистерии касались таинства рождения и смерти, показывает, похоже, один фрагмент Пиндара, οίδε μευ βίου τελευτάυ, οίδεv δέ διόσδοτου άρχάν. посвященный „знает о конце жизни и о ее Зевсом дарованном начале" (см. Karl Kerenyi, Die Geburt der Helena, 1943-1945, S. 48 ff.).
[lxiv] Νόμος, греческое слово для закона, происходит как известно от νέμειν, делить, владеть поделенным и обитать. Что закон исходно это „ограда закона", достигает явственной выраженности в одном фрагменте Гераклита: „Народ должен биться за закон как за городские стены". Римский lex означает наоборот то, что людей объединяет, не то, что их разделяет или замыкает. Однако границы и бог границы Терминус, отделявший agrum publicum от agro privato (Ливии), находились в большей чести чем соответствующие божества в Греции, υsoi 'όροι.
[lxv] Куланж сообщает (op. cit., p. 63) о старинном греческом законе, запрещавшем пристраивать одно здание к другому; между ними всегда должно было оставаться промежуточное пространство, род ничейной земли.
[lxvi] Пόλις, похоже, исходно имел значение „круговой стены", и латинское urbs, родственное с orbis, тоже значило окружение. Мы находим ту же связь в английском town, которое первоначально, как теперь немецкое Zaun, означало окружающую изгородь (см. R. В. Опiап, The Origins of European Thought, 1954, p. 444, прим. 1).
[lxvii] Законодатель поэтому не обязательно должен был быть гражданином и часто призывался извне. Его создание, законодательство, не имело собственно политической природы; оно было дополитическим условием политической жизни, к которой можно было приступать после его выполнения.
[lxviii] „Много рабского и низменного заставляет свободных людей делать нищета (πολλά δουλικά, και ταπεινά, πράγματα τους ελευθέρους η πενία βιάζεται ποιέιν)", говорит Демосфен (Or. 57, 45).
[lxix] Что человек должен был располагать достаточным имуществом, чтобы не нуждаться в заработке для поддержания жизни, если хотел стать свободным гражданином, находит себе явственное выражение еще в раннесредневековых английских Books of Customs, в строгом различении „между ремесленником и свободным человеком, franke homme, в городе. ...Если ремесленник делался так богат, что хотел стать свободным человеком, то он должен был сперва отказаться от своего ремесла и избавиться от всех инструментов в своем доме" (W. J. Ashley, op. cit., p. 83). Лишь когда в царствование Эдуарда III ремесленники разбогатели, соотношение перевернулось и „уже не ремесленники считались негодными для гражданства, а гражданство стало связано с принадлежностью к одной из компаний" (р. 89).
[lxx] Куланж в отличие от других авторов подчеркивает не „досуг", а ту деятельность античного гражданина, которая крадет у него время и силы; оттого он и понимает, что аристотелевское утверждение, согласно которому никто вынужденный работать для поддержания жизни не может быть гражданином, вовсе не свидетельство „предрассудков" Аристотеля, но простая констатация факта (op. cit., кн. IV, гл. 12). Только в Новое время богатство как таковое, независимо от занятости его обладателя, стало условием полноты гражданских прав: тем самым впервые права гражданства стали действительно чистой привилегией, которой начинали „пользоваться", т. е. которая давала права без обязанностей.
[lxxi] Здесь, мне кажется, лежит решение известной загадки из истории античной экономики, а именно что „промышленность развилась до определенной точки, но остановилась перед прогрессивными шагами, какие можно было ожидать" ввиду того факта, что „совершенство и способность к организации в широких масштабах римляне показали в других отраслях, в государственной администрации и в армии" (Barrow, op. cit., p. 109-110). Это современный предрассудок — ожидать, что та же способность к организации, которая царит в публичном пространстве, должна распространяться также и на приватную хозяйственную жизнь. На то обстоятельство, что „античные города в гораздо большей мере чем средневековые были центрами потребления и наоборот в гораздо меньшей центрами производства", что „рабовладелец... был именно рантье, не предприниматель", указал уже Макс Вебер в своем цитированном выше первооткрывательском труде (S. 13, 22 ff. и 144). Скудость источников по экономической истории древности восходит к равнодушию античных авторов к этим вещам; именно это придает выкладкам Вебера дополнительную весомость.
[lxxii] Все сочинения по истории рабочего класса как совершенно неимущего класса, живущего изо дня в день трудом своих рук, страдают от наивной предпосылки, что подобный класс существовал всегда. Мы уже видели, что даже в античности рабы не были неимущими, и когда говорят о некоем свободном рабочем классе в античности, то обычно оказывается, что он состоял из „свободных лавочников, торговцев и ремесленников" (Barrow, op. cit., p. 126). Так Μ. Ε. Park (The Plebs Urbana in Cicero's Day, 1921) приходит к заключению, что свободных рабочих вообще не существовало, поскольку каждый свободный всегда владел собственностью. То же самое однако имеет силу и для Средневековья по меньшей мере до 15 столетия: „Тогда еще не существовало большого класса наемных работников, никакого ,рабочего класса' в современном смысле слова. Под ,рабочим классом' мы подразумеваем определенное число людей, из среды которых некоторые индивиды могут действительно подняться до положения хозяев, но которые в своем большинстве не могут даже надеяться подняться до более высокого положения. Однако в четырнадцатом веке несколько лет работы поденщиком были лишь ступенью, через которую самые бедные должны были пройти, тогда как большинство по-видимому устраивалось самостоятельно в качестве мастеровых-ремесленников сразу же после окончания ученичества" (op. cit., p. 93-94).
Таким образом, „рабочий класс" в античности не был ни свободным, ни неимущим; когда раб достигал своего освобождения (через вольноотпущенничество в Риме, через выкуп в Афинах), он становился не рабочим, а независимым торговцем или ремесленником. Он всегда выносил с собой на свободу свой капитал, чтобы утвердиться затем в торговле или промысле (Barrow, Slavery in the Roman Empire, р. 103). В Средневековье опять же статус „рабочего" в современном смысле был временным состоянием молодых людей, которые учились на мастеровых и подрастали до зрелости; наемный труд за деньги был исключением, а не правилом для взрослых. Немецкие „поденщики", Tagelöhner, французские „рабочие руки", manoeuvres, английские „трудящиеся бедняки", labouring poor, жили вне общин и вообще отождествлялись с бедняками (Pierre Brizon, Histoire du travail et des travailleurs, 1926, p. 40). Сверх того, тот факт, что до Наполеоновского кодекса ни одно законодательство не предусматривает свободной рабочей силы, ясно показывает, насколько возникновение рабочего класса принадлежит современности (см. W. Endemann, Die Behandlung der Arbeit im Privatrecht, 1986, S. 49, 53).
[lxxiii] См. глубокомысленный комментарий к „собственности как краже" в посмертно опубликованной Théorie de la propriete Прудона (p. 209-210), где он называет собственность с ее „эгоистической, сатанинской природой" „действеннейшим средством, чтобы противостоять деспотизму без разрушения государства".
[lxxiv] Вынуждена признаться, что мне совершенно непонятно, как сегодняшние либеральные социальные экономисты (называющие себя часто консерваторами) могут так уверенно утверждать, что сохранность приватного имущества в непрестанно богатеющем обществе станет достаточным гарантом гражданских свобод, т. е. что это имущество может играть ту же роль что приватная собственность. В обществе, где обладание рабочим местом представляет единственную надежную собственность, эти свободы гарантированы только государством; это политическое, а вовсе не экономическое обеспечение. Угроза свободе в современном обществе идет не от государства, как предполагает либерализм, но от социума, в котором осуществляется разделение рабочих мест и которое устанавливает долю каждого индивида в совокупном достоянии социума.
[lxxv] „Сообщество в основном существовало ради общего благосостояния" (R. W. К. Hinton, Was Charles I a Tyrant? в Review of Politics, vol. XVIII, January, 1956).
[lxxvi] По истории слова „капитал", которое, происходя от латинского caput, в римском праве означает данную в долг сумму, см. W.J. Ashley, op. cit., p. 429 и 433, прим. 183. Лишь в 18 веке слово приобрело сегодняшний смысл денег, вложенных для получения прибыли.
[lxxvii] Экономические теории Средневековья числят деньги среди consumptibiles и пока еще не применяют их как общий знаменатель и масштаб для всех других „ценностей".
[lxxviii] John Locke, Second Treatise of Civil Government, section 27.
[lxxix] Сравнительно редкие случаи, когда античные авторы восхваляют бедность и труд, объясняются этой опасностью. На предмет ссылок см. G. Herzog-Hauser, op. cit.
[lxxx] Греческие и латинские слова для внутренней части дома, μέγαςου и atrium, имеют всегда побочное значение темноты и мрака (см. Моммзен, op. cit., S. 22 и 236).
[lxxxi] Аристотель, Политика 1254b 25.
[lxxxii] Аристотель прямо называет жизнь женщины „трудовой" (πονητικός, De generatione animalium 775a 33). На том же основании он в „Политике" обсуждает женщин и рабов вместе. Они принадлежат к одинаковой категории. Эта одинаковость давала о себе между прочим знать в том, что женщины проводили жизнь среди рабов, а не с себе подобными. Их ранг в жизни таким образом определялся их рождением в гораздо меньшей мере чем их „функцией". Это очень ясно описывает Wallon (op. cit., I, p. 77 ff.): он говорит о „смешении рангов в таком разделении домашних функций". „Женщины... смешивались со своими рабами в каждодневных заботах внутренней жизни. Какого бы ранга они ни были, труд был их уделом, как у мужчин война".
[lxxxiii] См. Pierre Brizon, op. cit., p. 184, об условиях работы на фабриках в 17 веке.
[lxxxiv] Тертуллиан, op. cit., p. 38.
[lxxxv] Этим можно было бы объяснить разницу между Августином, показавшим такое мудрое здравомыслие в своих политических сочинениях, и истерическими преувеличениями Тертуллиана. В конце концов, оба были римляне и воспитанники римской политики.
[lxxxvi] Мф 19, 17. Та же мысль в Мф 6, 1-8, где Иисус предостерегает от лицемерия, от показа своего благочестия. Благочестие не может "показаться перед людьми", а только перед Богом, „видящим тайное". Бог конечно „воздаст" человеку, но не „явно", как утверждает стандартный перевод. Немецкое выражение Scheinheiligkeit, показная святость, — самое подходящее для этого религиозного феномена слово, потому что в нем получает выражение тот факт, что простое выступление в явленность уже равнозначно с лицемерием.
[lxxxvii] Этот оборот речи часто встречается у Платона. Он обстоятельно объяснен в Горгии 482.
[lxxxviii] Principe, гл. 15.
[lxxxix] Там же, гл. 8.
[xc] Discorsi, кн. III, гл. 1.
Ханна Арендт "VITA ACTIVA, Или о деятельной жизни". СПб., 2000.